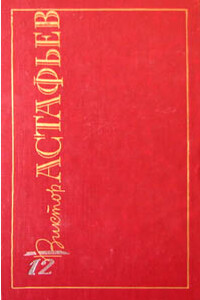Русские беседы: уходящая натура | страница 122
Но попытка соединить оказывается искушением, где земное подчиняет себе небесное, т. е. оказывается дьявольским искушением. В этом смысле Россия предстает «Царством Зверя», так как здесь это соединение произошло вполне, царь стал и главой церкви, или, как писал Мережковский в статье «Аракчеев и Фотий» (1910), цитируя архимандрита:
«Порадуйся, старче преподобный […] Министр наш один Господь Иисус Христос. – Молися об Аракчееве: он явился раб Божий за св. церковь и веру, яко Георгий Победоносец».
И, далее, комментируя это письмо Фотия архимандриту Герасиму: «Такова победа церкви по мнению Фотия: Христос – „министр духовных дел“; победа Христа – победа Аракчеева» (Мережковский, 1991: 168). Павел трагичен тем, что осуществляет соединение Государства и Церкви, Царя и Первосвященника – открыто. Он романтичен и безумен, беззащитен в своей честности – и ужасен в том, что честно выражает. Но его убийство оказывается не дающим выхода: «пока борьба со старым порядком ведется в плоскости только политической, как велась доныне, она не может кончиться победою» – ни для Александра I, ни для заговорщиков, часть которых мечтает о конституции, ни для декабристов, что для Пестеля, что для Рылеева, что для Лунина.
Каждому из них необходимо переступить через кровь, совершить убийство, но они не имеют для него оправдания в собственных глазах, преступление оказывается «голым», отмщающим за себя. И преступление требует отмщения, независимо от того, осуществилось ли оно в действительности или осталось только в замысле, поскольку в самой мысли переход уже был совершен, через смерть было переступлено. Отсюда и выход, который ищут герои, начиная от императора вплоть до Пестеля: в юродстве, радикальной простоте, начиная от ухода, стать «родства не помнящим», «Федором Кузьмичом», вплоть до того, чтобы признаться во всем Государю, который «поймет», «простит» и, более того, признает правоту, увидит в заговоре осуществление своих собственных мечтаний и надежд.
Иначе говоря, подлинная революция в оптике Мережковского времени написания «Царства Зверя» возможна только как революция религиозная, избавляющая от, в сущности, единого соблазна «цезарепапизма» или «папоцезаризма» и одновременно от иллюзии, что революционное действие способно остаться чисто политическим. Точнее, в последнем случае оно обречено на воспроизводство той же самой структуры, против которой было направлено, как то демонстрирует образ Александра I, становящегося даже внешне похожим на своего отца, повторяющим его жесты и реплики в тот момент, когда перестает контролировать себя, – Павел I оказывается «тайной» Александра I.