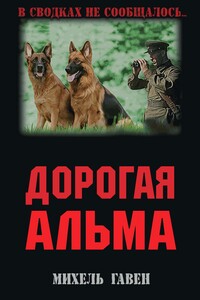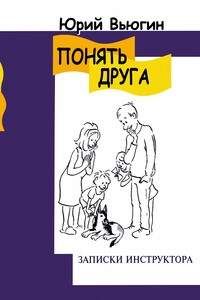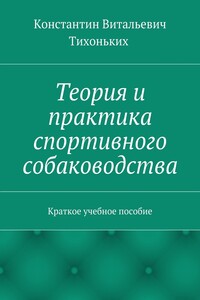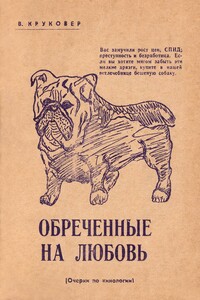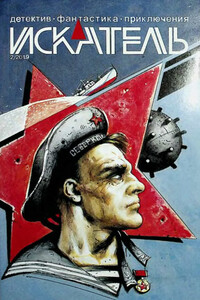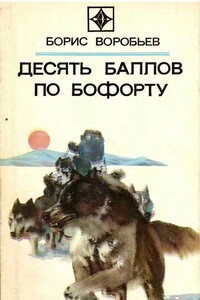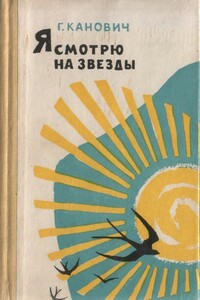Дик | страница 49
Но больше всего меня радовала отмена запретов, которые в свое время установил Кулаков. После того как Дик стал вожаком, нечего было опасаться оговора собак: вожак — лицо неприкосновенное, и Кулаков закрыл глаза на то, что еще недавно ему казалось недопустимым. Отныне я мог в любой день приходить на каюрню и сколько угодно общаться с Диком, не боясь, что Кулаков меня одернет. И я пользовался этим, но меру знал, а также не забывал почтить вниманием и других собак. Такая политика себя оправдывала, тем более что самого опасного смутьяна, Маленького, Кулаков куда-то сплавил, и у нас воцарился самый настоящий «золотой век» — ни открытых драк, ни тайных козней. Живи — не хочу.
И мы жили, но время, время! Как ни долго тянулась зима, но и она прошла, и наконец-то наступил май. Я радовался, но и грустил. Душа ликовала при мысли, что скоро можно будет взять билет на самолет и улететь подальше от этих осточертевших туманов, ветров и пург, но пять лет на Курилах — это пять лет на Курилах! От прошлого нельзя было откреститься без грусти и печали: пять лет зимовок вместили в себя целый пласт жизни, в которой были неповторимые моменты радости, открытий и осознаний. Да, жизнь на Курилах была трудна, но она не только не разъединяла живущих там, а, наоборот, сплачивала их, делала терпимее, добрее, бескорыстнее, и я до сих пор вспоминаю то время с любовью и нежностью.
И все же надо было уезжать. С одним из самолетов прибыл мой сменщик, я сдал дела, и теперь ничто не задерживало меня на острове. Ничто, кроме погоды. Конечно, май — это не февраль и тем более не март, однако тоже не сахар. Нет-нет да и налетали снежные заряды, но гораздо хуже было другое — туман. Остров лежал на водоразделе: с океанской стороны его обдували более или менее теплые ветры, в то время как из Охотского моря, как из ледяного погреба, постоянно тянуло холодом, и эти воздушные массы, смешиваясь над Первым Курильским проливом, буквально душили нас своими туманами. Они висели над островом целыми днями, и мы жили в их промозглом месиве, как в вечных сумерках.
Я каждый день звонил на аэродром и узнавал, когда будет самолет, и каждый раз наш аэродромный бог Гена-радист, он же начальник «аэропорта», механик и кассир, отвечал мне своим глухим басом: «А черт его знает, когда!» То Петропавловск отменял рейс, то мы не могли никого принять.
Такая волынка могла тянуться сколько угодно, но мне повезло: подвернулась «оказия». В словаре Даля так называется случай, спопутность для какого-нибудь дела или посылки; у Лермонтова в «Герое нашего времени» «оказия» — это прикрытие, с которыми ходили обозы во времена кавказской войны; у нас же так называлось всякое судно, на котором можно было добраться до Петропавловска. И только до него, потому что суда, идущие в обратном направлении, скажем, во Владивосток, «оказией» не считались: хотя и во Владивостоке можно было сесть на самолет или поезд, никому не хотелось болтаться около недели в море, все старались попасть в Петропавловск, до которого морем нужно было идти не больше суток.