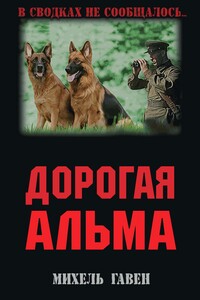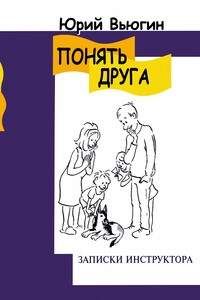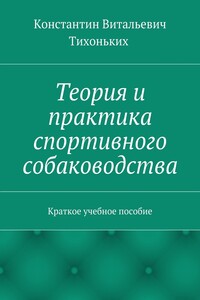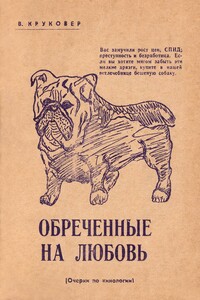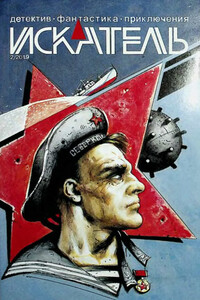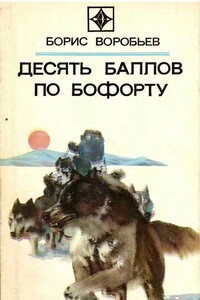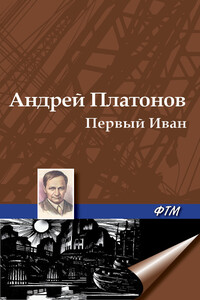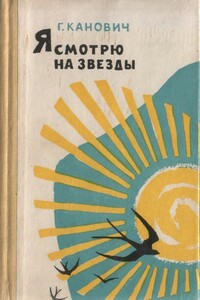Дик | страница 34
— А может, обойдется? — сказал я.
— Ну да, обойдется! Рано или поздно ему устроят «темную». Здесь есть такие спецы по этому делу — закачаешься. Все так обставят, что и концов не найдешь.
Так Кулаков лишился Веселого, которого через несколько дней обменял на другую собаку.
Колоритными фигурами в упряжке были и два ее вожака — Пират и Боксик. Первый полностью оправдывал свою кличку: мощный, отличавшийся абсолютным бесстрашием, он был для всех собак, как говорится, и царь, и бог, и воинский начальник. Правда, Пират чуть-чуть прихрамывал, но это не мешало ему наводить в упряжке порядок и дисциплину. Ретивых, которые пытались держаться независимо, он трепал с такой беспощадностью, что их приходилось отнимать у него.
Боксик, несмотря на свое уменьшительно-ласкательное имя, тоже был хорош. Про таких говорят: палец в рот не клади. Собаки его, как и Пирата, боялись, но для Боксика этого было мало. Его ущемляла главенствующая роль Пирата: он чувствовал, что Кулаков, хотя и относится ровно к ним обоим, в душе благоволит Пирату, и это не давало Боксику покоя. Он давно бы схватился с Пиратом, если бы не Кулаков, зорко следивший за вожаками и в корне пресекавший все их попытки выяснить отношения. Однако даже он не мог сгладить вражду между ними, и рано или поздно она могла вылиться в открытое столкновение.
Но и при такой пестроте личных свойств и качеств собаки ухитрялись уживаться и не доводить дело до крайностей. Инциденты, конечно, случались, например расправы с неугодными, но всякая такая расправа была действием коллективным, а не произволом одиночек (поддержание порядка вожаком в счет не шло, это было его исключительное право, и собаки признавали его). А жертвами коллективных расправ были обычно те, кто так или иначе нарушил неписаные правила стаи, кто желал хитростью или прямым обманом извлечь выгоду из общего равноправия. Против таких «голосовали» все, и в особо тяжелых случаях виновному выносили смертный приговор. Никакому обжалованию он не подлежал, и несчастного могло спасти лишь бегство из родных мест, потому что даже людское заступничество не помогало — как бы ни охраняли приговоренного, собаки всегда находили возможность расправиться с ним. Тут вступала в действие круговая порука, когда никто не подавал и виду, что что-то замыслил, и все жили только одним — непреходящим желанием подкараулить, выследить неугодного и свести с ним счеты.
Не меньше, чем законы упряжки, занимало меня и другое — загадка собачьего воя. Я слышал его сотни раз, но так и не мог понять его причины. Правда, однажды вычитал, что собаки воют, дескать, от холода и ничего загадочного в их вое нет. Никогда не соглашусь с таким заявлением, хотя можно допустить, что иной раз собаки действительно мерзнут, и уж тут хочешь не хочешь, а завоешь. Но это зимой. А летом? Летом-то отчего им выть, от жары, что ли? Нет, здесь все гораздо сложнее, стоит только понаблюдать. Одна лишь внезапность, с какой собаки начинают свой «концерт», уже ставит в тупик. В самом деле: минуту назад лежали смирно, вроде бы дремали, и вдруг какая-нибудь внезапно, без всяких приготовлений, задирает морду и начинает выть. К ней незамедлительно присоединяется другая, третья, и вот уже вся свора воет на разные голоса. Через минуту собачий хор гремит во всю мощь, слитно и грозно, и только искушенное ухо способно различить в нем басы старых собак, звучные баритоны трехлеток и неокрепшие дисканты одногодков и прочей щенячьей мелюзги. Сравнение с хором, причем с хорошо спевшимся, здесь подходит лучше всего: двадцать собак воют с такой страстью, с таким упоением, с каким исполняет мессу или хорал заслуженная капелла, когда не требуется даже взмаха дирижерской палочки, когда успех целиком и полностью зависит только от одухотворенности исполнителей.