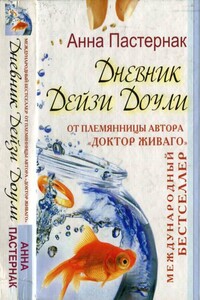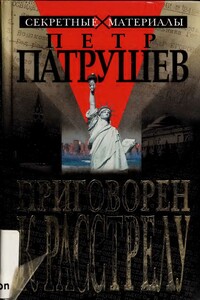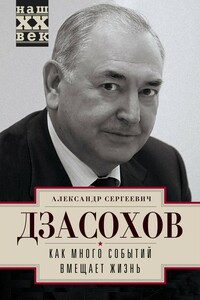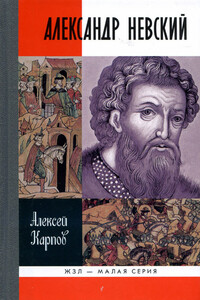Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание «Доктора Живаго» | страница 9
Когда я приехала в Переделкино, поселок писателей, расположенный в 50 минутах езды на машине от центра Москвы, где Борис провел почти два десятилетия, создавая «Доктора Живаго», меня охватила глубокая печаль. Сидя за письменным столом Бориса в кабинете на втором этаже его дачи, я заметила на столешнице блеклые круги – следы, которые более пятидесяти лет назад оставила на дереве его кофейная кружка. Снаружи за окном висели сосульки, наводя меня на мысли о фильме Дэвида Лина: мне вспоминалось Варыкино, где Юрий проводит свои последние дни с Ларой, – заброшенное поместье из романа, заснеженное, ослепительно сияющее под солнцем; кружево изморози на оконных стеклах; хрустальное волшебство, творящееся на экране; Джули Кристи, воплощающая его Лару, непринужденно прекрасная в своей меховой шапочке. Я думала о том, как мой двоюродный дед Борис смотрел из этого окна на сад, который обожал, как его взгляд, минуя сосны, устремлялся к церкви Преображения Господня. Там, вдалеке, переделкинское кладбище, где он похоронен. Утром того дня мы с моим отцом, племянником Бориса, с трудом пробирались сквозь высокие сугробы по направлению к кладбищу, чтобы посетить могилу Пастернака. Я была глубоко растрогана, увидев букет замерзших розовых роз на длинных стеблях, аккуратно прислоненный к его надгробию. Должно быть, их оставил кто-то из поклонников. Меня поразило, что могилу Бориса не украшают его строки. Только лицо, высеченное в камне. Именно простота этого надгробия производит очень сильное впечатление.
Я откинулась на спинку кресла Бориса в его кабинете и задумалась о том, как часто он, должно быть, отводил глаза от этого холмистого пейзажа, возвращаясь к странице (он писал от руки), чтобы создавать сцены любовной жажды, снедавшей Юрия и Лару. Когда я была в переделкинском доме, снаружи мягко падал снег, делая царившую в доме тишину еще более мягкой. Кабинет обставлен с почти болезненной простотой. В одном углу стоит маленькая кровать с кованой спинкой, над ней с одной стороны висит набросок портрета Льва Толстого, с другой – семейные зарисовки отца Бориса, Леонида. Эта кровать – с ее тускло-серым узорчатым покрывалом и красновато-бурым обрезанным квадратом коврика возле нее – больше подошла бы интерьеру монастырской кельи. Напротив – книжный шкаф: Библия на русском языке, труды Эйнштейна, сборники стихов У. Одена, Т. Элиота, Дилана Томаса, Эмили Дикинсон, романы Генри Джеймса, автобиография Йейтса и полное собрание сочинений Вирджинии Вулф (любимой писательницы Жозефины Пастернак), наряду с Шекспиром и учением Джавахарлала Неру. Лицом к письменному столу, на мольберте, – большая черно-белая фотография самого Бориса. Одетый в черный костюм, белую рубашку и темный галстук, он выглядит, как мне показалось, примерно на мой возраст – лет на сорок пять. Боль, страсть, решимость, покорность, страх и ярость излучают его глаза. Губы почти сжаты, будто закаменели в твердой убежденности. В его святая святых нет ничего мягкого или податливого; чувственность он приберегал для прозы.