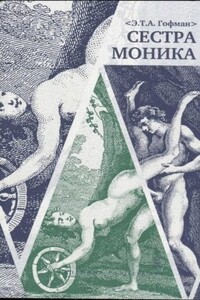Мать и сын | страница 30
С помощью сохранившихся у меня бумаг я смог восстановить наиболее близкую к истине дату: это был, скорее всего, рабочий день в конце августа — начале сентября. Я прочитал лекцию в одной из школ большого города Р., и чуть позже, к вечеру, уже находился на главном вокзале, в поезде, отходившем через восемь минут.
Лекция имела «успех» и, по сути дела, я должен был чувствовать себя «усталым, но довольным». Устать-то я устал, это да, а вот о довольстве не было и речи. Как получилось, что лекция удалась на славу, было для меня загадкой. Я читал ее в великолепном, новехоньком здании школы, где, казалось, все дышало счастьем жизни, где мальчики в своих чудесных разноцветных одежках, с полнейшим взаимопониманием и откровенностью объясняясь друг с другом, освежались из источника знаний; и где, кроме всего прочего, царили отличные отношения с преподавателями, к которым обращались просто «Сэйс» или «Шан». Что же тогда было не так? Да Бог его знает — думаю, это со мной было что-то не так. Как бы там ни было, лекционное помещение — солнечный, веселенький класс — с почти убийственной силой пробудило во мне прежнюю тоску, и мне то и дело казалось: еще мгновение, и я рухну без сознания или заору в голос. Ничего такого не произошло, и, похоже, никто не заметил, что я был близок к обмороку.
Аудитория состояла из юношей и девушек лет 16–18, — все, как один, сияющие воплощения минздравия, бодрости и благополучия. Беззаботная, безгрешная и, как мне из-за этого показалось, бессмысленная красота многих из этих молодцов заставила меня почувствовать себя этаким чтецом заупокойных речей в голландском комедийном фильме. Один мальчик во втором ряду, в детского покроя голубой рубашонке, однако красивый грубой и, конечно же, блондинистой, совершенно животной красотой, не спускал с меня серо-голубых глаз под длинными, чуть изогнутыми ресницами, немного приоткрыв жадный мальчишеский рот, хотя так и не рассмеялся ни над одной из моих так называемых шуток. Может быть, он внимал моей лекции, а может быть, и нет. Тем отчетливее я чувствовал, что он хочет узнать нечто определенное обо мне, беспощадно проникнуть в самую суть мою, и ищет свидетельства, законного и убедительного свидетельства тому, что он хорош собой, что кажется мне красивым, и что я отчаянно желаю его.
И теперь, пока перед глазами моими все еще стоял его «дразнящий образ», больше всего мне хотелось, грезя о нем, немедленно, откинув всякий стыд, начать ласкать самого себя и достичь верха наслаждения — но как, где? Единственным уединенным местом в поезде был туалет, но сей вариант возбудил во мне отвращение, поскольку я не принадлежу к породе людей, ставящих любовь на одну доску с той или иной кишечной функцией. Заниматься любовью в сортире — я всегда считал это одним из наиглубочайших прозаических унижений, какие только знал. Но, прежде всего: пользование туалетом на стоянках было запрещено, и я вряд ли смог бы растолковать кондуктору, что речь шла о чем-то другом, нежели удовлетворение большой или малой нужды. Я поежился. Жизнь — это такая грязь.