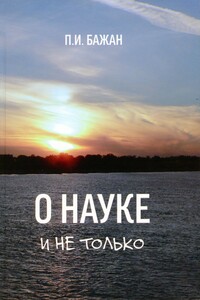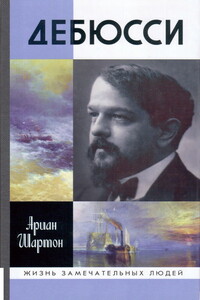Я сам себе жена | страница 36
Если люди ощущают голод или жажду, они говорят об этом, если они чувствуют вожделение, то молчат. Хотя это тоже жизнь, и этого нельзя отрицать.
В детстве я все время слышал брюзжание: это бяка, того нельзя, этого нельзя. Помню, как однажды в туалете я дал волю рукам, забыв запереть дверь. Вошла прислуга и возмущенно спросила: «Лотар, что ты там делаешь?» В принципе, вопрос был излишним, потому что было совершенно ясно, что я «там» делал. Такие бессмысленные вопросы лишь усиливали беспричинный стыд.
Но я знавал и другую реакцию, например, моей тети, когда она «застукала» меня с конюхом. Чего стоит вся морализация?
Что такое человек, в конце концов? «Высокоразвитое животное, двуногое, больше ничего», — обычно говорила моя мать.
Я не имел никакого желания рассказывать обо всем этом Роберту Риттеру и уходил от его вопросов о моей сексуальности.
В июне 1944 года советник полиции Унгер приехал за мной в Тюбинген и повез обратно в Тегель в детскую тюрьму. Эрнст Унгер взял меня за ручку, как когда-то дядюшка. Судьба, пусть на короткое время, дала мне друга, относившегося ко мне, как отец. Когда мы простились в стенах тюрьмы, я понял, как многим ему обязан.
Мой процесс должен был состояться в январе 1945 года. Мама нашла для меня защитника. Когда она в первый раз пришла ко мне на свидание, мы почти не разговаривали, мы просто смотрели друг на друга и чувствовали одно и то же: мы освободились от кошмара.
Тюрьма, построенная в прошлом веке в форме креста, имела четыре крыла. В центральной части здания находилось управление. Я сидел в камере 75, светлой и чистой, выходившей на юг. Но потом меня перевели на нижний этаж в камеру 13. Я страшно испугался, и не потому что был суеверен, а потому что камера была жутко запущенной и грязной. Я выпросил у тюремного уборщика ведро и швабру, принялся скрести и чистить, вымыл слепые окна. Камера получилась сводчатая маленькая и опрятная, но смотрела она на север, и ни один лучик солила не попадал в нее. Впрочем, я недолго сожалел об этом, потому что в южный двор попала бомба, кругом разлетелись осколки, и мальчик, который был переведен в 75‑ю камеру, получил смертельное ранение в голову.
Однообразно проходили дни, недели и месяцы. Я беспокоился за маму, ведь я почти ничего не знал о том, как она жила. Письма разрешались очень редко, к тому же их читал цензор. Я много раз размышлял, был ли другой способ спасти от отца маму, брата с сестрой и самого себя, но пришел к выводу, что поступил правильно. И я надеялся на справедливых судей. За несколько дней до начала суда появился вербовщик вермахта, который, невзирая внимания на закон, и обнаруживая тем самым, как обстояли дела в этом государстве, хотел взять меня в армию. Тюремный священник д-р Польхау, мужественный прямой человек, увидев у меня на столе бланк посещения, предостерег: «Только ничего не подписывай, это команда на небо». Он мог бы этого и не говорить, я бы все равно не подписал.