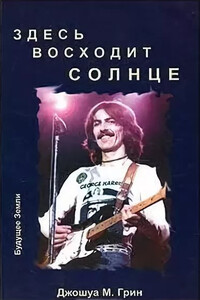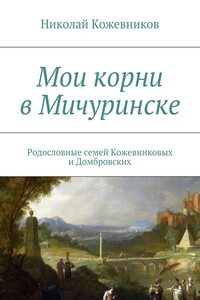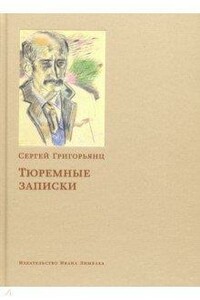В дни войны: Семейная хроника | страница 6
В дни раннего моего детства приходили к родителям ужинать их старые друзья. И я часто слышала из детской, как все они пели хором: «Быстры, как волны, все дни нашей жизни, что час, то короче к могиле наш путь…» Я засыпала под пение, и мне казалось, что это очень печальная песня, даже и припев звучал невесело: «налей, налей бокалы…»
Все реже становились ужины с пением. Потом совсем их не стало. Не стало друзей. До всех них добрались. Все это были офицеры, которых арестовали одновременно с папой и перевезли в Петроград в Кресты. Почти всех арестованных расстреляли одного за другим… С еще остававшимися на свободе папа всегда поддерживал дружеские отношения. Я помню многих, бывавших у нас в доме. К началу войны остались на воле лишь папа и его друг Астафьев, умерший своею смертью перед самой войной.
Астафьев жил в Сибири и иногда приезжал к папе и жил у нас. Я с детства была к нему нежно привязана — в его присутствии было спокойно и печально. Помню, он жил у нас летом в Горбах под Новгородом. Мы часто ходили всей семьей с «нашим Астафьевым» гулять или вдоль Волхова, или. в поля. Мне он запомнился слегка прихрамывающий, именно там, в Горбах, на изумрудно-зеленой полянке, около березовой рощи. Он долго безмолвно смотрел на белые стволы берез со светлой шелестящей листвой, на синее новгородское небо с белыми кучевыми облаками, и глубоко вздохнув, сказал печально: «Как красиво…» И все перестали разговаривать и сделались грустными… Мне показалось, что я его поняла: красота — это печаль по тому, чего не было или никогда не будет и, если случится увидеть красоту, она проплывает в синем небе, как облака, и остаешься с печалью. У «нашего Астафьева» было тонкое лицо, пушистые усы и приветливые, всегда задумчивые глаза. У него не было семьи, и от мамы я знала, что он — единственный папин друг, оставшийся в живых. И мне казалось, что он всегда, даже улыбаясь нам, детям, думает о своих друзьях, которых больше нет. Я его жалела и любила.
Раз, когда мы ехали в наше Токсово на дачу и я стояла с папой у открытого окна вагона, мы проезжали мимо Крестов и я увидела, что из камеры верхнего этажа через решетку окна просунулась рука и машет белым платком. Я быстро вынула из кармана свой платок и хотела помахать в ответ, но папа испуганно схватил меня за руку и запретил. Долго смотрела я на кирпичную стену тюрьмы и на маленький белый живой платочек — пока все не скрылось. Папа был очень грустный весь день — он боялся, наверное, подвести арестованного, которому «подавали условные знаки», ведь не докажешь обратного, а я до сих пор, когда вспоминаю этот день, грущу, что не послала арестованному привета с воли.