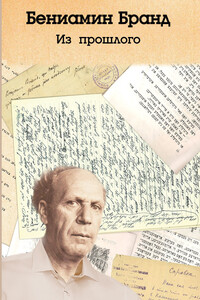В дни войны: Семейная хроника | страница 31
Тетя Маня (Мария Николаевна Ялымова, сестра мамы) была преподавателем литературы и заведующей учебной частью школы (в которой и мы с сестрой учились). Ей и ее подруге, тоже учительнице литературы Лидии Димитриевне Якимовой, пришлось вести детей школы в эвакуацию — вдвоем! Без матерей. Их опять не брали! Тетя Маня всю свою жизнь посвятила чужим детям и нам с сестрой. Многим, многим детям и подросткам она привила любовь к русской литературе. Со многими своими учениками она не прерывала дружеских отношений и после выпуска их из школы и помогала, заботилась и беспокоилась о них. Когда мы учились в ее школе, старшеклассники называли ее «за спиной» очень ласково «Тетушка», и все ее очень любили за талантливые уроки по литературе, за справедливость, строгость, и, когда нужно и можно, ее проявлять, за необыкновенную доброту. Тетя Маня окончила Высшие женские Бестужевские курсы и Томский университет, где и мама училась, и всю жизнь прожила праведно, воспитывая и развивая в своих учениках не только хороший вкус к литературе, но и благородство в жизни вообще.
Тетя приходила прощаться перед эвакуацией. Только одна мама была дома, папа был на казарменном положении в институте, я — на трудовых работах, сестра — тоже в институте. Тетя и мама горько плакали, расставаясь, жалея о всех недоразумениях, какие всегда случаются в жизни. Уходя, тетя сказала: «Больше не увижу детей». Мы хотя потом и переписывались с тетей, но больше никогда не свиделись. Для меня же тетя Маня в последний год обучения в школе и, потом, в студенческие годы до войны, сделалась очень близким и дорогим человеком, настоящим старшим культурным другом — учителем, так ценным каждому подрастающему молодому человеку, если ему посчастливится в жизни обрести такого: праведники в жизни оставляют в наших сердцах неизгладимый след и свет, который мы стараемся непроизвольно защитить и не погасить.
С тетей Маней и Лидией Димитриевной ехали в эвакуацию несколько сотен детей и дочь директора нашей школы, Григория Наумовича Эйзенштадта. Мы, школьники, нашего директора не очень почитали, может быть, совсем напрасно! Он был коммунист, но без всякого апломба, был прост, застенчив, всегда ласково и смущенно улыбался, совсем растерянно, когда разговаривал с нами, старшеклассниками, и носил очень короткие брюки.
Мы его жалели, но не переставая шутили по его адресу. Я раз видела его мать, приходившую в начале войны к маме (со своей златокудрой внучкой — дочерью Эйзенштадта), и поняла, почему наш «Гр. Наумович» был таким робким: мать его была большой гордой дамой с белыми пышными волосами, собранными по-старинному в узел на макушке в длинных черных одеждах совсем не современного типа. Она пришла воочию убедиться, что «мама нас с сестрой воспитала хорошо», как ей рассказывал сын(!), и решить, будет ли она просить маму (в случае беды с нею) взять ее внучку на воспитание. Уж не знаю, чем кончился несколько надменный разговор старой дамы с удивленной мамой. Но девочку (ей было лет тринадцать) к нам не привезли больше. А когда со старой дамой вскоре действительно случилась «беда», т. е. она скончалась, Гр. Наумович, которого призвали в армию, привез свою дочку к тете Мане, которую он глубоко почитал, а мы, школьники, дерзновенно считали, что его скромное сердце было уязвлено, с просьбой принять ее, как дочь, и воспитать ее, как родную, и если он не вернется с войны, не покидать ее. Тетя Маня, конечно, охотно ее приняла и взяла с собою в эвакуацию. Тетя о ней писала в письмах очень мало, но иногда в них проскальзывало удивление, что девочка не ласковая, а требовательно-капризная и надменная со всеми. Надеюсь, что во время эвакуации, когда они так много выстрадали, девочка перевоспиталась, для ее же пользы. Я так и запомнила ее с розовым личиком, закругленным, как у отца, носиком и совершенно сказочными золотыми волосами до пояса.