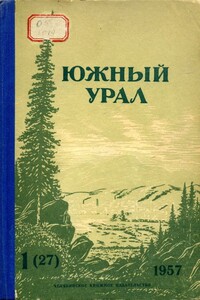Повести | страница 39
— А вы разве там же работаете? — спросил Мартынов.
— Как же, председатель завкома. Два месяца уже.
— Ну, а что с химией вашей?
Лицо Андреева стало мрачно.
— Женился я да политикой занялся. Тут уж не до химии… Сердце болит — нельзя рабочим делом не заняться. Если мы зевать будем, нас буржуазия живьем заглотит. Так-то, значит, химии моей конец.
Он задумался. Было тихо. Разводящий громко храпел — заснул, прислонившись к косяку окна.
— Давайте спите, товарищ Мартынов, а не то, вижу, разморило вас. Мне скоро смену заступать. Посижу, почитаю…
Мартынов погрузился в тишину и дремоту. Но вдруг громкий стук в сенях пробудил его.
— Кто-то там есть, — услышал Мартынов встревоженный голос Андреева. — Товарищ Мартынов, вставай!
— Вестовой, верно, — пробормотал Мартынов, готовый снова нырнуть в чуткую дремоту.
— Нет, тут что-то неладно! — крикнул Андреев, щелкая затвором.
Мартынов вскочил и увидел злобные лица, взлохмаченные бороды, в руках берданки и топоры.
«Бандиты, — мелькнуло в его голове. — Часового, верно, убили… и нас тоже!..»
Но не успел он додумать, как раздался тяжелый и глухой в комнате звук выстрела. Дым наполнил комнату, и толстый рыжий мужик, первый вбежавший в караульное помещение, тяжело сел на землю, выронив изящный кавалерийский карабин.
— Стреляй, товарищ Мартынов, чего смотришь? — раздался отчаянный крик, и, воспользовавшись замешательством толпы, Андреев выстрелил второй раз.
— Сволочи… Бей их! Бей…
«Стрелять нужно, — мелькнуло в голове. — Все равно конец, стрелять».
Но выстрелить ему не пришлось, — тяжелый удар по затылку свалил его на пол. Падал и, уже не сознавая, слышал третий выстрел Андреева, тяжелый гулкий звук, покрытый ревом и ругательством толпы.
И он уже не чувствовал второго удара бандитского топора, которым ему раздробили череп.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Три дня Робейко не выходит из дому. Простудился на облаве: видно, продуло. До вечера крепился, а ночью стало совсем плохо. Утром пробовал встать, но закружилась голова, он опять лег и, не вставая, лежал в большой комнате с зелеными бархатными шторами, которая раньше была кабинетом господина Сенатора.
Хотелось есть, но некому было сходить в столовую за обедом. Хозяева по условию ставили два самовара в день. Поэтому он пил горячий чай и ел ржаной хлеб.
Хлеба у него было много, целый каравай лежал на столе. Робейко обломал с него всю корочку и раскрошил по столу много крошек. Очень скучно было ему. Товарищей он не винил за то, что к нему не заходят, знал — сейчас не до него, а все же было тоскливо. Темнело, но огня он не зажег, читать не хотелось. Проплывали воспоминания о молодости, о делах прошедшего. Все вспоминалась весна тысяча девятьсот пятого года на Екатеринославщине и какая-то, наверно первая, сходка в молодом березовом лесу, под прохладным пологом звездной ночи, и первое, совсем неумелое, но такое горячее выступление — теперь так, пожалуй, не скажешь. И девушка вспоминалась в коричневом скромном платье, она не спускала с него глаз, блестящих карих глаз под черными бровями, а потом сама подошла к нему. Как звали ее, Оля или Леля, — какое-то весеннее и любовное имя…