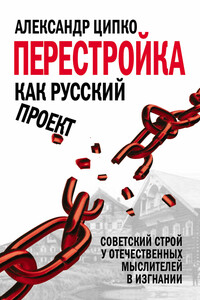Почему в России не ценят человеческую жизнь. О Боге, человеке и кошках | страница 35
Я, честно говоря, в своей родной мещанской Одессе, которую навсегда покинул в 1963 году, так и не встретил человека, который бы не только на словах, но и на деле своей жизнью доказал верность идеалам коммунизма. Я так и не встретил личность за все 50 лет жизни в СССР, которая бы отличалась тем, к чему призывал еще в 1919 году рабочих и крестьян Владимир Ленин, чтобы эта личность работала целиком и полностью «во имя блага всего общества», не для себя лично и для своих ближних, а во имя дальних, во имя «общества в целом, десятков и сотен миллионов людей» (Ленин В. И. ПСС. Т. 39, с. 22).
Но я, став свидетелем этой раздирающей душу сцены самораздевания колхозницы Марии, самораздевания во всех смыслах, начал уже тогда, в 1965 году, подозревать, что ее настроение, ее отношение к колхозам и к нашей советской великой державе разделяют многие крестьяне, прикрепленные еще со времен Сталина пожизненно к земле. Да, колхозник, призванный в армию, отслужив, мог уже не возвращаться в родную деревню. Да, детей, с отличием закончивших школу, председатели колхозов обычно отпускали учиться в город. Но как на самом деле должны были ощущать себя миллионы и миллионы крестьян, которых бригадир, хотят они этого или нет, тащил каждое утро на поле. И причем учтите, что забывают се наши идеологи красоты советскости, что еще сам Хрущев на Пленуме ЦК КПСС в марте 1954 года говорил, что все они, крестьяне, на самом деле работали за «галочку», что за трудодни на самом деле и чаще всего ничего не платили. Ведь на самом деле выжило советское крестьянство, да и весь советский город только потому, что Сталин после голода 1932–1933 годов вернул в 1934 году крестьянам часть земли, не более 50 соток, в качестве «личных подсобных хозяйств».
Можно ли было этим людям искренне и всей душой полюбить систему государства, которое насильно, а многих навсегда привязало к колхозу и к его земле. И, наверное, совсем не случайно советские люди в 1991 году, даже после самой благодатной для них брежневской эпохи, довольно равнодушно созерцали смерть советской системы и распад СССР. Ведь правда состоит в том, о чем мало говорили в нынешнем юбилейном году, что подавляющая часть населения дореволюционной России, ни 82 % крестьян, ни порядка 10 % мещан не выбирало никакого социализма. Если бы крестьяне в солдатских шинелях, которые жаждали мира, чтобы сохранить жизнь, и права оторвать у помещика лишний кусок земли, знали, что их ждет коллективизация, они никогда в жизни не пошли бы за большевиками, за Лениным и Троцким.