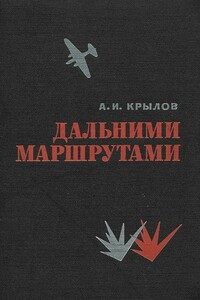Там, где ночуют звезды | страница 47
Останавливаюсь возле свежей могилы. Полдень, солнце выпустило на волю своих леопардов, а яма наполнена голодным сумраком, как деревенский колодец. Кого она ждёт — мужчину, женщину, юношу, старика? Неужели её жилец ни разу за всю свою смерть не переедет на другую квартиру, не побывает в Лондоне или Париже? Разве можно представить, что человеческий дух так легко положить на лопатки? Что движение подчинится покою? Или это жильё на какую-нибудь тысячу лет, которая для мёртвого как одно мгновение? А потом? А потом он переберётся в другое место, в более совершенное здание. Я вспомнил афоризм Сенеки: нас страшит не смерть, а то, как мы её себе представляем.
И ещё вспомнил, как давным-давно был у меня один сосед, Айзикл-Снеговик. Снеговиком его прозвали неспроста, именно так он и выглядел. Ему было лет восемьдесят, а мне в десять раз меньше, но мы были одного роста.
А жена у него была — огонь. Просто чудо, что он не растаял. Айзикл очень любил жену и очень любил рассказывать ей сказки, и всё — о рае: как там хорошо, и просторно, и красиво. Там ей не придётся драить полы и латать мужнину одежду, не надо будет изо всех сил раздувать угли в развалившейся печи, ведь там всегда тепло.
И вот однажды он ей рассказывает, а супруга глубоко вздохнула и говорит:
— Конечно, муженёк, в раю хорошо. Вот только чёрная яма райских врат мне не нравится…
А теперь я стою у райских врат. Они нетерпеливо ждут, когда их отворит ещё один человек. Может, за ними цветут древо жизни и древо познания? Но человек не приходит, не открывает чёрных врат, потому что сегодня забастовка могильщиков.
Я думаю о двух деревьях в раю: надо изобрести какую-нибудь уловку, чтобы отведать их плодов.
Влажный ветер, вынырнув из близкого моря, окропил солёными брызгами душное кладбище. Объеденные саранчой акации напрягли мускулистые ветки, одетые пурпурным цветом, точно мехом.
Что такое жизнь, что такое смерть? Если жизнь — это Солнце, то смерть — тёмная Луна. И осветить её может только человек, который сам — часть Солнца или Солнцем рождён. Когда-нибудь он снова родится, такой солнечный поэт, и осветит Луну. И тогда скелеты поймут его язык. И зааплодируют в могилах. Пока поэзия предназначена только для живого читателя — она ничего не стоит. Надо сказать, такой поэт уже был: Иезекииль. Он пророчествовал в Долине мёртвых, его дыхание вошло в них, и они ожили. Музыкальность Бодлера тоже предназначалась теням, рассыпавшимся в пыль. Он обращался к подруге, которой посвятил «Искусственный рай»: «Я хотел бы писать только для умерших…»