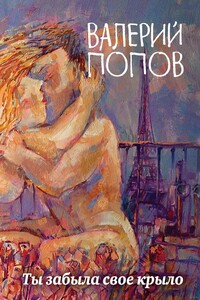Как кошка смотрела на королей и другие мемуаразмы | страница 44
В 1988 году в издательстве «Книга» вышел сборник довольно странного состава. В него вошли «Жизнь Жана Расина» Франсуа Мориака, «Исповедь Никола» Жерара де Нерваля (о французском писателе XVIII века Никола Ретифе де Ла Бретоне) и роман Альфреда де Виньи «Стелло, или Синие демоны», в котором тоже действуют писатели: Томас Чаттертон и Андре Шенье. И авторы, и герои все замечательные, но общего, кроме писательского ремесла, у них немного. Идея объединить их под одной обложкой и издать в серии «Писатели о писателях» принадлежала издательству, нам же, переводчицам, предстояло воплотить ее в жизнь. Роман Виньи перевела Ирина Исаевна Кузнецова, Мориака и Нерваля мы с Олей переводили вместе, но, по своему обыкновению, поделили: за мной был записан Мориак, за ней – Нерваль. И еще мне предстояло не только сделать примечания к текстам, но и написать вступительную статью, в которой как-то объяснить невинному читателю, что, собственно, эта троица: Мориак, Нерваль и Виньи – делает под одной обложкой. Сама судить не могу (да и не перечитывала давно), но, по Олиным словам, я ухитрилась их всех как-то так связать, что казалось, будто все трое писали специально для издательства «Книга». Но разговор не об этом, а о том, что в романе Нерваля (который во многом следует автобиографическим сочинениям самого Никола Ретифа де Ла Бретона) есть эпизод, где заглавный герой вечером гуляет по парижскому острову Сен-Луи и украдкой процарапывает на парапете набережной инициалы своей возлюбленной. Через год после выхода этой книги я впервые оказалась в Париже и как будто попала в собственные примечания: для меня огромным шоком было убедиться, что все эти парижские топонимы, которые я только что вслепую комментировала в книге, существуют на самом деле. Видимо, от этого у меня немножко помутилось в голове, и я отправилась на остров Сен-Луи поискать там на набережной или на стенах домов следы вечерних прогулок Ретифа. Разумеется, ничего не нашла и потом много раз вспоминала об этом своем «паломничестве» как о проявлении уникального, скажем так, простодушия. Все-таки со второй половины XVIII века прошло два столетия. Но оказалось, что простодушие мое было вовсе не таким уникальным. Подруга рассказала мне, что немецкий литератор, переводивший Ретифа с французского на немецкий, приехав в Париж, точно так же отправился на остров Сен-Луи и точно так же – и с тем же успехом – пытался отыскать там Ретифовы надписи. В результате моя давняя попытка как бы приобрела законный статус и из придури превратилась в законную исследовательскую любознательность. Вот это – настоящая республика словесности.