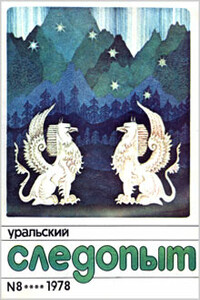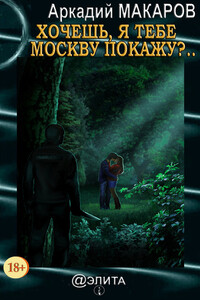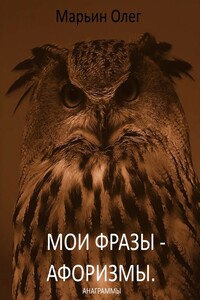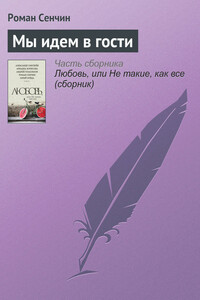Как кошка смотрела на королей и другие мемуаразмы | страница 35
Рецепт в этом кьеркегоровском варианте приобрел такой вид: сода с уксусом (незыблемы и неизменны), дальше берем щепотку ванили и чайную ложку корицы или не берем ни того ни другого; отделяем желтки от белков и взбиваем белки или не отделяем и ничего не взбиваем; сахар неотменяем, изюм тоже, берем стакан измельченных орехов или не только не измельчаем орехов, но и вообще их не берем, а заменяем вторым стаканом изюма. Ну и мука опять же неотменяема. Да, и, конечно, размешиваем тесто в течение сорока минут или не размешиваем. В общем, упрощение достигается с помощью нескольких или и, что самое поразительное, совершенно не влияет на результат: более того, магия второго стакана изюма такова, что большинство тех, кто пробовал плоды моего упрощения (а я не то чтобы ленюсь измельчать орехи, а просто сама их не люблю), уверяли меня, что «там изюм – и орехи».
Если же вернуться к анонсированным французам, то многие, наверное, знают, что у них в рационе нет ни наполеона, ни безе, а есть только mille-feuille (тысячелистник, или, как у нас пишут, мильфёй) и меренга. Но не всякий знает, до какой степени француза эти наши названия удивляют. Император в качестве десерта? Поцелуй в качестве пирожного к чаю? Французское восклицание c’est pas vrai (не может быть, а в дословном переводе: это неправда) – самое мягкое, что может сказать француз по этому поводу.
Это платье просвещает?
Что же касается запорожских слов, то помимо общераспространенных, о которых уже шла речь, были еще слова семейные, принадлежавшие в основном одной из моих тетушек. Впрочем, может быть, она не сама их придумала, а почерпнула из общего наречия, но я слышала это только от нее. Если кто-то поступал очень предупредительно по отношению к ней (в частности, при игре в карты), она говорила – довольно парадоксально: «Вы очень перпендикулярны» (хотя логичнее в этом случае было бы говорить о параллелизме). А про летнее платье из просвечивающей ткани она спрашивала: «Скажи, это платье очень просвещает?» Сейчас мне пришло в голову, что это речение уместно распространить на одну современную концепцию перевода. Еще в 2002 году, когда Елена Калашникова брала у меня интервью (одно из тех 80, которые вошли в ее книгу «По-русски с любовью», вышедшую в «Новом литературном обозрении» в 2008 году), она огорошила меня вопросом: как вы считаете, должен ли сквозь перевод просвечивать оригинал? Я даже не сразу поняла, что имеется в виду; вроде очевидно, что переводчик должен давать некоторое (лучше полное) представление об оригинале. Оказалось, что речь о другом: должен ли сквозь русский текст просвечивать иностранный синтаксис (кардинально от русского отличающийся)? Я считаю, что не должен, хотя бы потому, что для французского или английского читателя его синтаксис родной и он не воспринимает его как нечто экзотическое, для русского же читателя такой просвечивающий текст превращается в экзотику и бег с препятствиями, то есть, если вернуться к запорожским терминам, он хоть и просвечивает, но не просвещает, потому что затрудняет понимание и не сближает нас с иностранными авторами и читателями, а отдаляет от них.