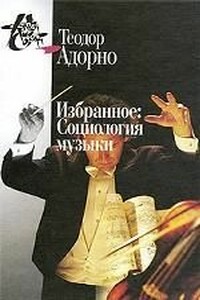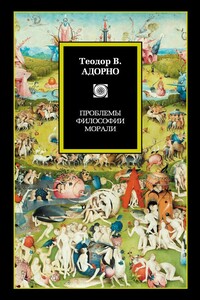воспаленно мечтал о рубинах и изумрудах, пришел в голову вопрос, в чем, собственно, заключается блаженство владения камнями, предстающими не как средство обмена, а как роскошная пещера. В этом вопросе отражена вся диалектика Просвещения. Он столь же разумен, сколь и неразумен: разумен, поскольку уберегает от поклонения кумирам, неразумен, поскольку оборачивается против собственной цели, которая присутствует только там, где ей не требуется оправдывать себя ни перед какой инстанцией, ни перед какой интенцией: нет счастья без фетишизма. Постепенно, однако, скептический детский вопрос распространился на всю роскошь в целом, не обойдя стороной даже голое чувственное удовольствие. Эстетическому взгляду, который отстаивает бесполезность в пику утилитарности, эстетическое начало, насильственно отделенное от целесообразности, представляется антиэстетическим, поскольку оно выражает насилие: роскошь становится грубостью. В конце концов роскошь поглощается подневольным трудом – или же застывает в форме карикатуры на саму себя. То, что еще сохраняется от прекрасного в условиях ужаса, предстает издевкой и изуродованной версией себя. И всё-таки эфемерный образ прекрасного говорит о том, что ужаса можно избежать. Некая доля этого парадокса лежит в основе всего искусства – сегодня он проявляется в том, что искусство вообще еще существует. Застывшая идея прекрасного требует и отказаться от счастья, и одновременно утверждать, что оно есть.
78. За горами, далеко-далеко{200}. В сказке о Белоснежке тоска находит более полное выражение, чем в любой другой. В чистом виде ее олицетворяет королева, которая смотрит в окно на снег и мечтает, чтобы у нее родилась дочь, прекрасная, как безжизненно-живые снежинки, как траурно-черная оконная рама, как кровь, пролившаяся от укола, – а потом умирает при родах. Это не способен изгладить даже счастливый конец. Как смертельно исполнение желания, так иллюзорно и спасение. Ибо более глубокое восприятие не даст поверить, будто удалось разбудить ту, что лежит, подобно спящей, в стеклянном гробу. Не является ли кусок отравленного яблока, который, когда несли гроб, выпал от тряски у нее из горла, не способом умерщвления, а скорее остатком упущенной, отвергнутой жизни, от которой она только теперь поистине выздоравливает, так как ее больше не увлекают за собой посланницы-лгуньи? И как убого там говорится о счастье: «Согласилась Белоснежка и пошла за ним следом»