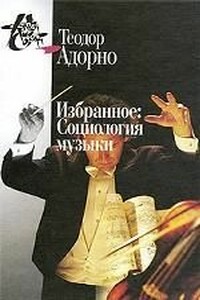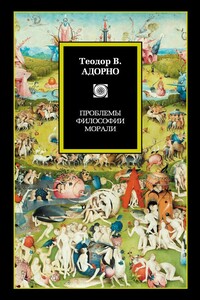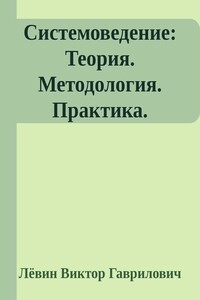Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 67
64. Мораль и стиль. Как писатель на опыте убеждаешься в том, что чем точнее, осознаннее, соразмернее делу выражаешься, тем труднопостижимее считается результат твоего литературного труда, а вот если формулируешь мысль небрежно и безответственно, то тебя награждают определенным пониманием. Нисколько не поможет аскетическое воздержание от любых элементов профессионального языка, любых обращений к более не существующей образованности. Строгость и чистота языковых конструкций, даже при их крайней простоте, создадут лишь вакуум. Небрежность, скольжение по течению привычной речи считается знаком причастности и контакта: человек знает, чего хочет, потому что знает, чего хочет другой. Выражать свои мысли и следить за сутью, а не за коммуникацией, подозрительно: всё специфическое, всё, что не опирается на схематизм, предстает неуважительным, воспринимается как симптом оригинальничания, чуть ли не сумбурности. Современная логика, которая столь гордится своей ясностью, наивным образом восприняла подобное извращение в сфере обыденного языка. Расплывчатость выражения позволяет воспринимающему представлять приблизительно то, что для него приемлемо и что он и без того думает. Строгость выражения принуждает к однозначной интерпретации, к напряженному пониманию, от чего людей сознательно отучают, и, прежде чем донести какое-либо содержание, предполагает отказ от расхожих суждений, а вместе с этим некое самообособление, чему люди яростно сопротивляются. Они считают понятным лишь то, что им не надо даже понимать; лишь поистине отчужденное, лишь слово, несущее на себе отпечаток коммерции, трогает их как знакомое и близкое. Мало что способствует деморализации интеллектуалов больше, чем это. Тот, кто намерен избежать ее, должен за каждым призывом к тому, чтобы обращать внимание на доступность сообщения, видеть предательство по отношению к сообщаемому.
65. Зверская голодуха. Противопоставлять говоры рабочего люда литературному языку реакционно. Досужесть и даже высокомерие и заносчивость придали речи высшего слоя общества некую долю независимости и самодисциплины. Вследствие этого речь противопоставляется собственной социальной сфере. Она оборачивается против господ, которые пользуются ею всуе в своих приказах, и сама намеревается приказывать им, отказываясь служить их интересам. Однако в речи угнетенных одно лишь господство оставило свой след, да еще и лишило ее справедливости, которая обещает наделить неискалеченным, автономным словом всех, кто достаточно свободен, чтобы произнести его без rancune. Пролетарская речь продиктована голодом. Бедняк пережевывает слова, чтобы насытиться ими. От их объективного духа он ожидает сытной пищи, в которой ему отказывает общество; он набивает пустой рот. Так он мстит языку. Он оскверняет тело языка, которое ему не дают любить, и с бессильной силой воспроизводит тот позор, которому подвергли его самого. Даже лучшее в диалекте берлинского севера или языке лондонских кокни – меткость и природное остроумие – страдает тем, что оно, дабы выжить в отчаянном положении не отчаиваясь, высмеивает не только врага, но и самое себя и таким образом оправдывает устройство мира. Если письменная речь закрепляет классовое отчуждение, то это отчуждение нельзя отменить за счет регрессии до уровня разговорной речи, оно может потерять силу только вследствие строжайшей языковой объективности. Лишь говорение, которое снимает внутри себя письмо, освобождает человеческую речь от ложно приписываемой ей человечности.