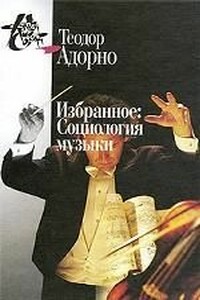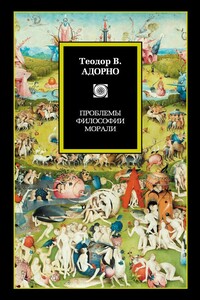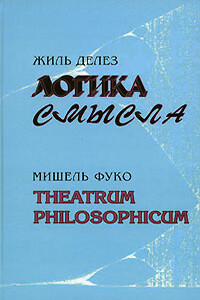Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 61
58. Правда о Гедде Габлер{163}. Духовно-исторические корни эстетизма XIX века нельзя постичь изнутри него самого, их можно постичь лишь в отношении к реальности, на которую он опирается, лишь в отношении к социальным конфликтам. На дне аморальности покоится нечистая совесть. Критика сталкивала буржуазное общество с его собственными нормами как экономически, так и морально. Напротив, господствующему слою, если он не хотел попросту оказаться во власти апологетической лжи и ее бессилия, подобно придворным поэтам и романистам, поддерживавшим государственные устои, не оставалось ничего иного, как отвергнуть сам принцип, определявший меру вещей для всего общества, то есть его собственную мораль. Однако новая позиция, которую буржуазно-радикальное мышление заняло под давлением мышления, наступавшего ему на пятки, не исчерпывалась простой заменой идеологической иллюзии на истину, провозглашаемую с яростью саморазрушения, упорную в своем протесте, но готовую к капитуляции. Бунт красоты против буржуазного добра был бунтом против доброжелательности. Сама же доброжелательность является деформацией добра. Отделяя моральный принцип от общественного и перемещая его в сферу личной внутренней установки, она ограничивает его вдвойне. Она отказывается от того, чтобы претворять в действительность достойное человека состояние, соположенное моральному принципу. В каждом из ее действий присутствует нечто от утешительной резиньяции: она нацелена на смягчение, а не на излечение, и сознание неизлечимости в конце концов идет рука об руку с ней. Тем самым доброжелательность ограничена и в самой своей сути. Ее вина – в доверительности. Она симулирует непосредственные отношения между людьми и перескакивает дистанцию, которая только и дает единичному возможность защититься от посягательств со стороны всеобщего. Как раз в теснейшем контакте единичный человек болезненнее всего ощущает неснятое различие. Лишь чужесть является противоядием к очуждению. Эфемерный образ гармонии, в котором доброжелательность наслаждается собой, тем явственнее подчеркивает страдание от непримиримости, чем упорнее его отвергает. Проступок против вкуса и внимания к человеку – проступок, от которого не свободен ни один доброжелательный поступок, – приводит к нивелированию, чему противится бессильная утопия красоты. Так с самого зарождения высокоиндустриализованного общества исповедание зла стало не только предвестником варварства, но и маской добра. Достоинство добра перешло ко злу, поскольку зло перетянуло на себя всю ненависть и весь ресентимент со стороны общественного порядка, который навязывал добро своим приверженцам, чтобы самому быть злым безнаказанно. Когда Гедда Габлер смертельно обижает тетю Юлле, до глубины души желающую ей добра; когда она нарочно принимает уродливую шляпу, надетую тетей в честь генеральской дочери, за шляпу прислуги, недовольная женщина не только по-садистски обрушивает на беззащитную жертву всю свою ненависть против навязанного брака. Она при этом грешит против лучшего, с чем имеет дело, поскольку в лучшем видит позор добра. Она бессознательно и абсурдно представляет собой абсолют перед лицом пожилой женщины, которая боготворит своего никчемного племянника. Жертва – это Гедда, а не Юлле. Красота, эта навязчивая идея, которой одержима Гедда, противодействует морали еще до того, как высмеивает ее. Ибо красота упрямо противится всякой всеобщности и возводит определение различий в простом наличном бытии, случай, который допустил удачно сформироваться одному и не допустил другому, в абсолют. В красоте непроницаемое особенное утверждает себя как норма, как единственно всеобщее, поскольку нормальная всеобщность стала чересчур проницаемой. Так красота бросает вызов всеобщности, равенству всего несвободного. Однако тем самым она сама навлекает на себя вину, вместе со всеобщим вновь отсекая возможность выхода за пределы того простого наличного бытия, непроницаемость которого всего лишь отражает неистинность плохой всеобщности. Так красота оказывается неправой на фоне правого – и всё же по сравнению с ним обладает правотой. В красоте бессильное будущее приносит жертву молоху настоящего: поскольку в царстве настоящего не может быть добра, она сама себя делает чем-то дурным, чтобы в поражении своем уличить своего судью. Протест красоты против добра – это буржуазно-секуляризованная форма ослепления героя трагедии. В имманентности общества заключено сознание его негативной сущности, и только абстрактное отрицание выступает на стороне истины. Отвергая неморальное начало морали – репрессию, антимораль одновременно присваивает ее сокровеннейшее стремление, а именно стремление к тому, чтобы с исчезновением всех ограничений исчезло и всякое насилие. Поэтому на самом деле мотивы непреклонной буржуазной самокритики совпадают с материалистическими мотивами, которые позволяют привести ее к осознанию самой себя.