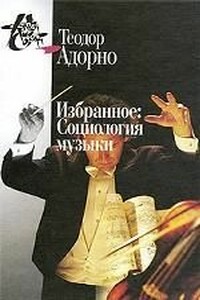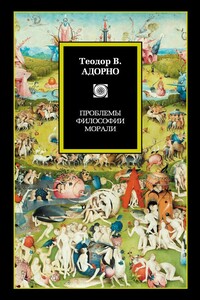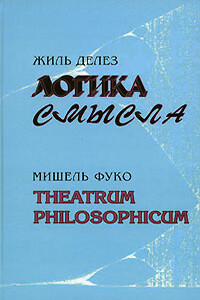Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 60
57. Раскопки. Стоит только произнести имя такого писателя, как Ибсен, сразу же раздаются голоса, которые клеймят его самого и его сюжеты как устаревшие и отсталые. Это те же самые голоса, что шестьдесят лет назад возмущались модернистской растленностью и аморальной экзальтированностью его Норы{161} и Привидений. Ибсен, ярый буржуа, обратил свою ярость против общества, у самого принципа которого он позаимствовал и непримиримость, и идеалы. Он запечатлел портреты представителей сплоченного большинства, освистывающего врага народа, разместив их на исполненном пафоса, устойчивом к непогоде монументе, однако они по-прежнему не чувствуют, что им польстили. Поэтому они переходят к повестке дня. Там, где разумные люди едины в оценке поведения неразумных, всегда можно предполагать наличие неразрешенных проблем, отложенных на потом, болезненных рубцов. Именно так дело обстоит с женским вопросом. На деле он, на поверхностный взгляд, вследствие разрушения либерально-«мужской» конкурентной экономики, из-за появления женщин-госслужащих, которые столь же самостоятельны, как несамостоятельные мужчины, а также из-за разволшебствления семьи и ослабления сексуальных табу уже не стоит так остро. В то же время традиционное общество, продолжая существовать, искажает путь эмансипации женщин. Мало что так симптоматично для распада рабочего движения, как то, что оно не обращает на указанное обстоятельство никакого внимания. За допуском женщин ко всевозможным поднадзорным занятиям скрывается продолжение их расчеловечения. На крупном предприятии они остаются тем, чем были в семье – объектами. Следует помнить не только об их убогом рабочем дне на службе и о повседневной жизни, которая противоестественным образом сохраняет замкнутые домашне-хозяйственные условия труда в условиях промышленных, но и о самих женщинах. Покорно, без попыток сопротивления они отражают отношения господства и идентифицируют себя с ними. Вместо того чтобы решить женский вопрос, мужское общество настолько широко распространилось, что жертвы оказались неспособны этим вопросом даже задаваться. При условии, что им обеспечивают определенное обилие товаров, они с восторгом покоряются своему жребию, оставляют мышление мужчинам, клеймят любую рефлексию как проступок против женского идеала, пропагандируемого культурной индустрией, и вообще чувствуют себя комфортно в собственной несвободе, считая ее исполнением предназначения своего пола. Дефекты, которыми им приходится за это расплачиваться, и в первую очередь невротическая глупость, способствуют сохранению данного положения вещей. Еще во времена Ибсена большинство женщин, что-то представлявших собой в буржуазном обществе, были готовы наброситься на собственную сестру-истеричку, что вместо них безнадежно пытается вырваться из тюрьмы социума, столь твердо повернувшейся к ним всеми четырьмя стенами. Однако их внучки, вовсе не ощущая, что ситуация касается и их, снисходительно улыбнутся истеричкам и предадут их органам опеки, чтобы те деликатно о них позаботились. Истеричке, желавшей чудесного, пришла на смену неугомонная дура, которая ждет не дождется торжества беды. – Но возможно, так дело обстоит с любым устареванием. Оно объясняется не просто временнóй дистанцией, а вынесенным историей приговором. Его вещественное выражение – стыд, охватывающий потомка перед лицом представившейся ему ранее возможности, которую он не сумел воплотить в жизнь. Всё, что было воплощено, может быть позабыто – и сохраниться в настоящем. Устаревшее – это всегда лишь то, что не удалось, нарушенное обещание нового. Не напрасно женщин Ибсена называют «современными». Ненависть к современности