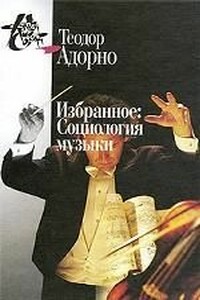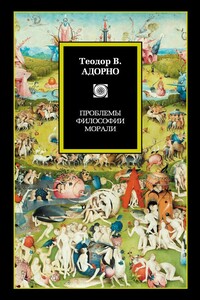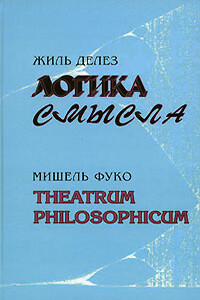Minima Moralia. Размышления из поврежденной жизни | страница 51
49. Мораль и хронология. В литературе были рассмотрены все психологические виды эротических конфликтов, а вот простейший материал внешнего конфликта остался незамеченным по причине своей очевидности. Это феномен занятого места: любимый человек отказывает нам не из-за внутренних противоречий и торможений, не из-за излишней холодности и не из-за того, что слишком часто подавлял теплые чувства, а потому, что уже существуют отношения, исключающие новую связь. Абстрактная хронология на самом деле играет ту роль, которую хотят приписать иерархии чувств. В отданности другому, помимо свободы выбора и принятия решения, заключена также доля совершенной случайности, которая, как кажется, прямо противоречит притязанию на свободу. Даже в обществе, исцеленном от анархии товарного производства (и именно в таком обществе!), вряд ли правила смогут регулировать то, в какой последовательности люди знакомятся друг с другом. Если бы дело обстояло иначе, подобное упорядочение было бы равнозначно невыносимейшему вмешательству в свободу. Поэтому и приоритет случайного имеет под собой веские основания: если одному человеку предпочитают другого, нового, то первому так или иначе причиняют зло, аннулируя совместное прошлое, как бы перечеркивая даже сам опыт этого прошлого. Необратимость времени создает объективный моральный критерий. Однако он родственен мифу, как и само абстрактное время. Заложенная в нем исключительность перерастает согласно своему собственному понятию в исключительное господство герметично замкнутых групп и, в конце концов, в господство крупной промышленности. Нет ничего трогательнее, чем трепетное опасение любящей женщины, что новое увлечение может перетянуть на себя любовь и нежность – то лучшее, чем она владеет, именно потому, что им невозможно владеть, – перетянуть как раз благодаря той новизне, которая порождена самой привилегией старшинства. Однако от этой трогательности, без которой истаяло бы всё тепло и всё чувство защищенности, ведет прямая дорога к ревнивой неприязни старшего братика к новорожденному, к презрительному отношению студента-корпоранта к новичку и наконец – к иммиграционному законодательству, которое в социал-демократической Австралии запрещает въезд всем, кто не относится к кавказской расе