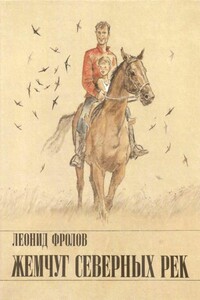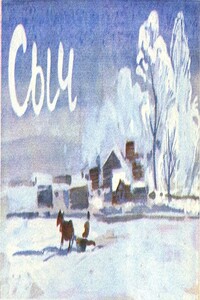Мальчишки | страница 98
На другой день утром меня усадили в кресло. Рядом был Саня. Острым коленом я чувствовал его ногу — она вздрагивала. Григорий Павлович — тот, что чудился мне черным и маленьким, уходя в операционную, проговорил:
— А ты жди, Саня, — то ли продолжая вчерашний разговор, то ли так, бодря и себя и Саню.
Люда сидела около нас. Она держала мою руку и больно нажимала ногтем.
— Люда, может быть, мне что-нибудь передавали, а вы забыли. Вам нельзя забывать, — Саня задвигался и добавил: — Вспомните?
— Санечка, да разве я забуду? Я же знаю, что ты ждешь.
Люда рассказывала о цвете неба, о листьях, всеми силами стараясь отвлечь наши мысли от операции. Григория Павловича пронесли на носилках в палату, он стонал. Когда я входил в операционную, за спиной раздался шепот:
— Удалили…
И голос профессора:
— Постарше!
Я вернулся назад.
Люда увела Саню…
Пришла и моя очередь.
Надо мной звякали инструменты и далеко-далеко шуршали, как пергаментная бумага, голоса. Я напрягал последние силы, чтобы не закричать от боли. Я потерял сознание и очнулся лишь в палате. У постели сидела мама и кому-то быстро говорила:
— Я бегу по горе и чувствую, волосы поднимаются. Думаю, войду и огорошат — «удалили». Спасибо вам.
Она пощупала мой пульс. Я пошевелил рукой и сказал:
— Я буду видеть, правда?
«Мама, наверное, похудела. А где-то теперь Сенька», — думал я. Здесь, на громадном расстоянии от света, я почувствовал себя пылинкой и затосковал, как птица, запрятанная в клетку, о большом просторе.
Я видел однажды, как сосед-охотник принес в дом сокола и посадил его в клетку. Сокол быстро двигал головой, удивляясь потолку и стенам, оклеенным обоями. Он бил крыльями, точно боялся, что разучится летать, и через три дня умер, бессильно раскинув крылья и сомкнув клюв. Он не мог жить без свистящей силы ветра.
Шли дни. Я уже двигался, правда на ощупь по коридору, выходил в зал, садился за стол, находил пальцами газеты, журналы и думал невесть о чем. Кто-то раз я услышал голос:
— Хотите я почитаю?
— Да.
У девочки был тоненький голос, и мне казалось, что он вот-вот сорвется.
— А что вам почитать?
— Все равно. Лучше стихи.
— Это кто?
— Пушкин…
Мне стало грустно. Ничего не сказав, я ушел в палату. Лег на постель и слушал, как по стеклу хлестал дождь, слушал долго и напряженно, пытаясь по звукам представить картину осени.
К вечеру я снова вышел в зал, и снова тот же тоненький голосок спросил: