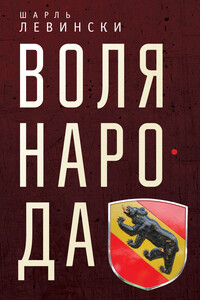Кастелау | страница 68
Кляйнпетер ему руку протянул, но тот ее вроде как не заметил даже. Ладонь вверх как вскинет. «У нас, в Кастелау, – тявкнул, – в таких случаях принято говорить „Хайль Гитлер!“»
Маркус Хекенбихлер. Ответ на вопрос анкеты
Конечно, отец был нацистом. Он и сам никогда этого и не отрицал.
Он был за порядок, так его воспитали, и такое тогда время было. Не стоит забывать: он ведь и Первую мировую войну пережил, и всю последующую сумятицу – инфляцию и великую депрессию, кризис этот экономический. И ему, конечно, нравилось, что снова введены твердые правила. Но я должен признать: ему и командовать нравилось. В такой маленькой деревушке, как наша, всегда есть вроде как видные семьи, ну и не особо видные, так вот, Хекенбихлеры никогда в видных не ходили. И отцу, ясное дело, одно удовольствие было сознавать, что теперь его слово в общине самое главное.
Как его сын я достаточно часто на себе мог почувствовать, что человек он строгий, иной раз, быть может, даже не в меру строгий, к тому же и справедливый не всегда. В деревне многие люди его боялись.
Но это не значит, что всякий нацист – сразу преступник. Отец никогда ни в СС, ни в чем-то подобном не состоял, а преследований евреев в Кастелау, где отродясь евреев не водилось, и не было никогда. Отец был, можно сказать, функционер, он принимал и отдавал приказы, твердо веря, что служит правому дело, коли в этом деле все заодно.
А в том, что про него после смерти болтали, много вранья. Я-то твердо убежден, что умер он от горя, но горевал совсем не из-за того, что война проиграна. Тут другое: не мог он смириться, что ему суждено снова Хекенбихлером стать, человеком как все, обычным, самым заурядным Хекенбихлером.
Дневник Вернера Вагенкнехта
Ужасно хочется лечь, но простыни задубелые, вообще ледяные. В номере стужа. Запретил себе через каждые пять минут бегать к батарее, проверять, не подает ли та хоть какие-то признаки жизни, но сдерживаюсь с трудом. Просто когда убеждаешься, что батарея по-прежнему ледяная, только сильнее мерзнешь. По большей части всё ведь так и так от головы идет. Пытаюсь обогреваться надеждой. Хозяйка (не забыть бы ее описать) твердо обещала, что к вечеру отопление запустит, «если не заржавело совсем, ведь сколько уже не работало».
Спальное ложе темного дерева, с высокой спинкой в изголовье. Края боковин слегка выступают над матрасом. В это сооружение не спать ложишься, а укладываешь себя, как в ящик, если не что похуже. (Кстати, приподнять матрас оказалось делом совсем не простым. Будет хороший тайник для этой тетрадки.) Еще имеются стул и небольшой столик, для пишущей машинки слишком низкий. Может, удастся поменять. Хлипкий расшатанный шкаф, от которого отваливается фанеровка. Так и вижу добротные крестьянские шкафы, которые стояли здесь во всех номерах, пока не приехал какой-нибудь пройдоха-антиквар и не выменял их на эту вот фабричную дрянь. На стене акварель: