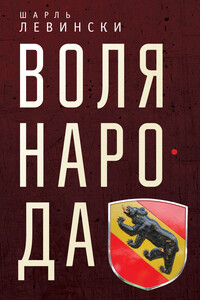Кастелау | страница 57
Что же мне теперь – стыдиться? Да, люди, заживо сгоревшие в этих остовах грузовиков, погибли вовсе не ради того, чтобы у меня когда-то потом был материал для романа. Но что не будет записано – будет забыто. Настанет время – а такое время настает неизбежно, – когда никто не поверит, что такое вообще могло случиться. И случилось именно так, а не как-то иначе.
Когда вся эта жуть кончится – не век же ей тянуться, похоже, недолго осталось, – я ни одного сценария больше не напишу. Это я твердо решил. Только роман. Для которого у меня все еще нет названия. Может, конечно, это я сам себя убеждаю, но, по-моему, это главная задача, ради которой я все эти годы силы копил. Один-единственный роман, в котором будет всё. Всё, как оно было.
Тити, содрогаясь всем телом, била вокруг себя руками, словно отмахиваясь от роя невидимых ос. Глаза зажмурены, как у перепуганного ребенка. Я перехватил ее руки, но она продолжала кричать, теперь уже уткнувшись куда-то мне в пальто. Когда крики перешли в плач, я почувствовал, как спазмы наконец-то перестали сотрясать ее тело.
Зато Мария Маар, распрямив спину, застыла по стойке «смирно», словно солдат в почетном карауле. И только непослушная правая рука, успев нырнуть в карман, беспрерывно дергалась. Казалось, какой-то мелкий зверек норовит вырваться. А если вырвется – сожрет всех нас. Лицо у Маар каменное, в глазах – ни слезинки. Сама жизнь подает ей такую доходчивую реплику, а плакальщица рейха так и не догадалась заплакать.
Зато плакал Вальтер Арнольд. По крайней мере, лицо руками закрыл. Поза, показалось мне, все равно какая-то не убедительная, слишком театральная. Cлишком элегантно он стоял: вот вам, пожалуйте, опорная нога, вторая чуть согнута, короче, фиглярское отчаяние на провинциальных подмостках. Впрочем, возможно, я к нему несправедлив. Быть может, вся эта театральщина у него от чистого сердца.
Сервациус, стоя на коленях на краю кювета, согнулся почти до земли. Со стороны казалось, будто он бьет молитвенные поклоны, но его попросту рвало. Над ним в растерянности стоял Кляйнпетер, снова и снова как-то робко поводя рукой. Словно хочет погладить Сервациуса по голове, но не решается.
Августин Шрамм ушел. Просто ушел вперед по шоссе, куда глаза глядят, лишь бы прочь. И пока его было видно, ни разу не оглянулся. Как будто он на длинном непрерывном плане, когда режиссер сказал: «Просто иди вперед, пока я не крикну „Стоп!“» Водитель пустился за ним вдогонку, то и дело окликая. Сперва кричал: «Господин Шрамм!» – потом просто: «Августин!»