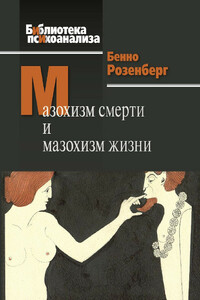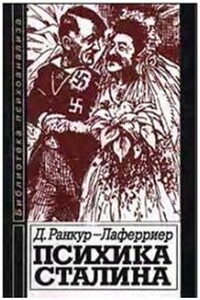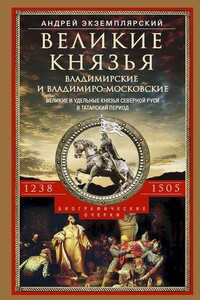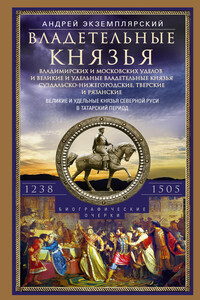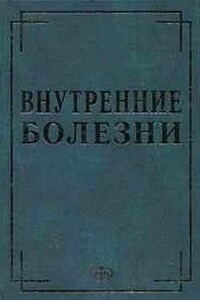100 слов психоанализа | страница 59
Почему работа по отделению столь болезненна, почему либидо цепляется за исчезнувший объект, даже когда ему уже есть замена? «Мы не можем этого понять», – пишет Фрейд. У Мелани Кляйн есть ответ. Потеря дорогого человека независимо от возраста, в котором происходит утрата, всегда является повторной потерей, второстепенной, уже испытанной травмой, новым переживанием раннего опыта. Объект [сегодняшней] любви – это потерянный [ранее] объект, депрессивная позиция нас всех объединяет. Любая скорбь, даже переживаемая впервые, – это всегда повторение [первичного горя], реприза и трансформация более ранней смерти и страдания, игнорированных до этих пор.
Слияние (симбиоз)
Одной из особенностей анализа пограничных>* пациентов является форма, которую приобретает их перенос>*, часто представляющий собой регресс>* к самым ранним состояниям зависимости, порой чрезмерно выраженный. Какие пережитые ранние травмы пытается таким образом повторить пациент в переносе? Какие лишения испытал он в детстве и какую нехватку он пытается повторить и восполнить во время анализа? Размышляя над этими вопросами, Винникотт выдвинул гипотезу о «первичной материнской заботе». Идея заключается в состоянии «нормального безумия» матери, которое создает мост между последними месяцами беременности и началом новой жизни, нивелируя разрыв, обусловленный рождением; на протяжении этого психического времени мать постоянно идентифицируется со своим ребенком. Речь идет об идентификации>*, основанной на сенсорности, позволяющей одному (матери) верно чувствовать психические и физические движения другого (младенца). Перманентное стремление «пограничного» пациента к слиянию, его неизменный страх