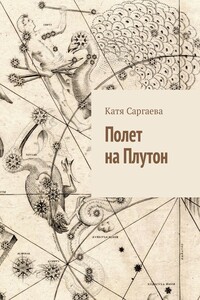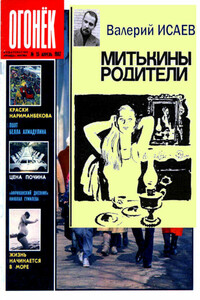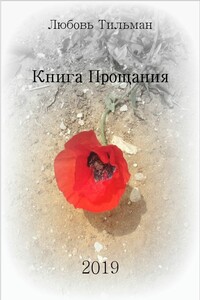Три персонажа в поисках любви и бессмертия | страница 95
Прошло однако недели две, а то и более, маркиз исправно оплатил обещанное, работа в печатне продвигалась, а аббата вдова не видела. Только изредка под ее окнами раздавался привычный собачий лай, и пролетала как ни в чем не бывало длиннополая фигура, преследуемая ватагой пацанов. Гости к вдове сходились по-прежнему. Господин Тибо и маркиз упражнялись в красноречии. Пионы отцвели. Черешня поспела. Все шло, как положено. Разве что епископ в один из вечеров взялся вдруг зачем-то сипловато-скучным голосом комментировать историю Элоизы и Абеляра и рассуждать о том, каковое представление имеет церковь о законности и о грехе. Вдова его слушала внимательно.
– Что ж, никакой нет возможности, чтобы грех прощен был? – спросил епископа Тибо несколько вызывающе.
– Есть, – ответил тот. – Имеются три диспозиции, по причине которых грешник будет признан в глазах Церкви невиновным, будь он даже, по закону человеческому, преступником. Эти три резона таковы: во-первых, неведение, во-вторых, страх и, в третьих, несвобода. Эти мотивы, извиняющие грех, основываются на положении святого Августина, закрепленном Каноном, а именно, что грех есть акт свободного выбора и воли. А стало быть, нет греха там, где нет свободы. И святой Фома Аквинский это подтверждает, что-де дурной поступок остается дурным, но если совершен он невольно, то грехом в церковном смысле не является. Разумеется, незнание, по тому же Фоме, может быть актом свободной воли. Можно ведь предпочесть не знать, с тем чтобы знание не помешало грешить. Такое незнание греха не извиняет. А только тогда извиняет, когда человек не знает чего-то такого, чего знать он отнюдь никак не может. Что, конечно, к Абеляру никак не относится. А потому был он великий грешник, но и мученик, а под конец жизни сподобился святости.
Зачем епископ об этом распространялся, вдове было неведомо. Обыкновенно он ее гостей такими опытами не утомлял.
Между тем встал перед Туанеттой вопрос, без решения которого ей продвигаться в ее работе по изданию «Современного органиста» стало невозможно. Дело заключалось в том, что некоторые пьесы в рукописи были так плотно написаны, что близрасположенные ноты почти сливались, и гравировать их было затруднительно. Это давало повод вдове зайти в собор и поговорить с аббатом. Она долго колебалась, но в конце концов решила послать офортиста. Тот вернулся с ответом: гравировать все, как в рукописи указано. Такое сжатое письмо было, мол, исполнено намеренно, для тех, кому ноты переворачивать некому. А таким манером вся пьеса на одном листе умещалась. Вдова тогда решила такие партитуры на специальной бумаге большого формата гравировать и в сборник их в сложенном виде вставлять; и работа снова закипела.