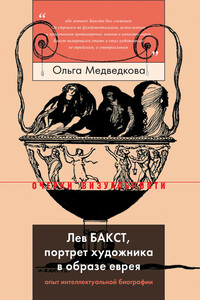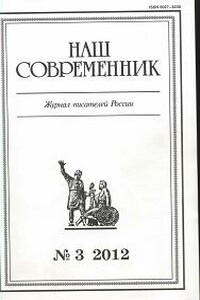Три персонажа в поисках любви и бессмертия | страница 84
– А клавесин-то покажете?
Повела его в апартаменты мужа. Там они вдвоем сняли чехол и обнажили померкший, некогда ярко красный инструмент.
– Ох, старинный, прошлого еще столетия. Антверпенский, самих Рюкерсов: вот тут, видите, написано.
Он стал его гладить и трогать, открывать и закрывать, пробовать клавиатуру.
– Разумеется, его переоперить необходимо. Вот тут, эти молоточки – это ведь перышки, их надобно поменять. И запоет он у нас, как миленький.
– А вы бы смогли?
– Так отчего же, смогу. Оперить, настроить и прекрасно играть можно будет.
– К среде?
– Допустим.
– Может быть, все же придете в таком случае, удостоите небольшим исполнением?
– Ах, вам отказать прямо невозможно, когда вы так просите, у вас… ну да ладно.
На том и откланялся, пообещав вернуться, как только добудет все необходимое. Она осталась одна. Обошла половину мужа, постояла на пороге спальни. Надо девчонке сказать, чтобы пыль вытерла. И рабочим из печатни – чтобы клавесин в салон перетащили. Спустилась в кухню. Стряпуха чистила спаржу. Села рядом и тоже принялась чистить. Нож скользил взад-вперед по прозрачным стеблям, похожим на бескровные пальцы. Руки были заняты. Это она любила. А мыслью вернулась к тому, что с ней «произошло». Что же это такое? Черная фигура в сутане, смуглое смеющееся лицо, глаза с тяжелыми веками и веселым бесцеремонным взглядом, найденыш, иезуитский выкормыш, аббат, каноник. Ей захотелось, чтобы он поскорее вернулся и еще что-нибудь сарлекинничал, насмешил ее. «Зачем мне все это?» А что «все» и что «это», не знала. Снова испугалась, подумав о том, как он носится по улицам. Поскользнется, упадет. Что за нелепость? Что за белиберда?
– Чему улыбаетесь, сударыня? – спросила кухарка.
Она почувствовала на своих губах улыбку.
– Уж не влюбилась ли моя госпожа?
– Влюбилась?
«Влюбилась»? Слово-то какое, да еще произнесенное стряпухой. Это было не ее амплуа. Как сказал бы аббат «трогательно», годилось для простонародной песенки. В Париже их называли «брюнетками», ибо речь в них шла часто о пастушке, влюбленном в девушку такой именно масти. Она вспомнила, как пел одноногий шарманщик на площади Сан-Сюльпис.
Такие ариетки ничего не давали уму, а еще меньше сердцу. В них описывалось бестолковое поведение человека, охваченного любовной страстью, повествовалось о муках и томлениях неразделенного пыла, о бессонных ночах, потере аппетита и прочих недомоганиях, которые, вместо того чтобы от них избавляться, влюбленный лелеял, «пленялся» этим беспорядком и сам себя с ним поздравлял. Складывалось впечатление, что отдельные личности только и делали, что искали, как бы им в таком состоянии оказаться и наиболее продолжительно оставаться. В жизни своей вдова подобных случаев не наблюдала. Родителей своих в нежном ракурсе не запомнила, ибо мать умерла, когда она была ребенком. А иных таких историй, о которых в брюнетках пели и в романах писали, ей не припоминалось. Из чего вывод сам собой напрашивался: либо распространено подобное сумбурное чувство было в неграмотном народе, либо сильно преувеличено господами беллетристами, зарабатывавшими на этой чепухе и нелепости свой смоченный чернилами кусок хлеба.