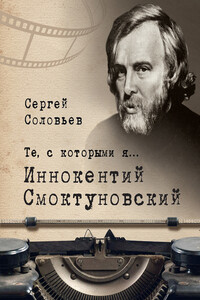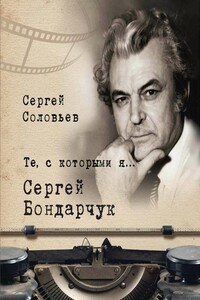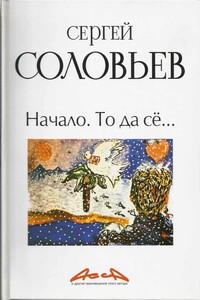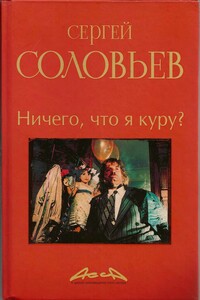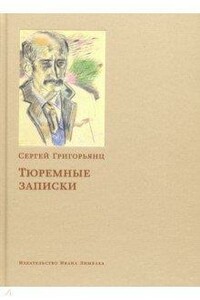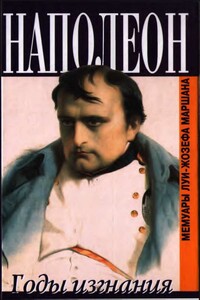Михаил Ульянов | страница 12
Битва за Москву
Битва за Москву
Сочинение ко Дню Победы
Ну спасибо ему, потому что он мог себя вести со мной ну как угодно. Это же так просто, да еще такой звезде. А он был мегазвезда в советском кино. Раздавить меня, как клопа, вымыть руки и выпустить акт художественной самодеятельности, собственной, да еще в бурочках и кудрях… Нет ничего проще. Но ничего из этого он не сделал, ничего. И дальше мы долго работали над этой очень сложной картиной…
Тогда же был такой бич в театре и кино — бич скрытых смыслов. То есть нужно было обязательно разбирать текст. И мы начинали… Должны были разбирать тексты, в этом тексте вскрыть какие-то мысли, желательно как бы диссидентские, которые мы проведем через горьковский текст для того, чтобы все вздрогнули и обалдели от того, какие мы смелые и общественно-неукротимые либеральные демократы. Я это ненавидел всей душой. Вот всей душой! И он мне говорил: «Ну давай разберемся». Я говорю: «Михаил Александрович, я же начинающий режиссер, я дебютант, я сам ни хрена не знаю. Зачем они это все? Зачем это все делать? Но я как бы знаю, как это должно быть, но объяснить пока это не могу. Вы должны сделать ну такую сказку, что ли, ну я пока очень молодой, я пока еще очень…» И тогда он понимал. Он был очень умный человек. Он понимал, что я хитрю и как бы дурю, но не сцеплялся со мной. У него появилась такая совершенно потрясающая фраза. Он приходил уставший — мы во вторую смену снимали всегда, потому что он одновременно репетировал в Вахтанговском «Антония и Клеопатру». И вот он после репетиций измученный приходил на «Егора Булычова». Одевался в этот мой замечательно любимый костюм, замечательно любимый грим, садился, читал газету, все спокойно. Я там занимался своими делами какими-то, потом говорил: «Михаил Александрович, пойдем сниматься». И он складывал газету, вставал и говорил: «Ну, Мейерхольд, режиссируй меня». И я его режиссировал. А для того чтобы я его режиссировал, нужно было, чтобы он мне дал возможность режиссировать себя. Вот в этот момент и появилось наше исключительно правильное и нежное содружество. Я ему предлагал какой-то рисунок, а он его гениально выполнял. Гениально! Там были странные вещи. Там же у Булычова рак. И я помню, мы снимали сцену с докторами, когда он на осмотре у докторов. Я ему говорю: «Ну вот, давайте, нужно быть обнаженным по пояс…» Раньше было не принято, как это Булычов в кудрях, в жилеточке и бурочках, а тут он обнаженный по пояс, как в арестантском стоит. Он говорит: «Слушай, ну давай». И не спорит со мной совершенно… Не то что — нет, я не буду раздеваться, нет, я буду только одеваться. Ничего подобного не было. Он разделся по пояс, говорит: «Слушай, ничего, что вот такой бугай представляется раковым больным?» А я действительно посмотрел на него — в него можно было просто гвозди вбивать молотком, и гвозди бы ломались. То есть такой он был физической мощи, физической силы человек. И как раз вот это сочетание немыслимой физической мощи, немыслимого могущества и того, что есть что-то, что сильнее любой силы, есть некий божий промысел. И это сложнейшее сочетание он играл с поразительной силой откровенности и убедительности. Всем моим очень таким слабым предположениям он придавал силу и мощь убедительности. Убедительности того, что идет через внутренний мир огромнейшей личности.