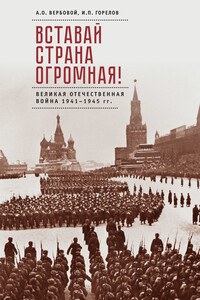Тысячеликая мать. Этюды о матрилинейности и женских образах в мифологии | страница 65
Возвращаясь к мегалитическим культурам Европы, отметим, что, возможно, они были связаны с общностями, члены которых говорили на языках сино-кавказской языковой макросемьи (Григорьев 1999: 347; Чирикба 1985; Ардзинба 1983: 166–172; Ардзинба 1979). Носители языков этой макросемьи почти наверняка, согласно данным топонимики и общих соображений из области истории культуры, орографии, этнографии и экологии, продвинулись с Ближнего Востока («ядренная» прародина сино-кавказцев, возможно, находилась в горах Загроса) не только в Европу, но и на восток: в восточный Иран, Афганистан, Индию и далее – в Китай (там их потомки – до сих пор сино-кавказцы) и, возможно, в Австралию, где языковая семья пама-ньюнганн имеет все шансы оказаться специфически родственной сино-кавказской макросемье.
7. Итоги сравнительного анализа: матрилинейность – результат диффузии
В социальной антропологии существует представление о том, что матрилинейность, так же как и патрилинейность, могла формироваться многократно и независимо в разных частях ойкумены под воздействием определенного комплекса стимулирующих факторов. Одним из первых проводников этой точки зрения был, в частности, А. Рэдклифф-Браун (1924; 1935). Рассмотренные нами выше данные, равно как и другие, которые невозможно было привести в ограниченной по объему монографии, побуждают думать, что это неверно. Если бы матрилинейность была способна возникать спонтанно под воздействием матрилокального правила поселения, тогда ее идеологическое обоснование должно было бы возникать многократно и системы идеологических воззрений должны были бы иметь существенные локальные различия. На самом деле ничего подобного нет. Они не только унифицированы у большинства матрилинейных народов в самых удаленных друг от друга частях ойкумены, но матрилинейные народы разделяют эти унифицированные представления с рядом нематрилинейных народов (Шинкарев 1997), что указывает на былую более широкую распространенность матрилинейности на всех континентах, кроме Австралии (и острова Новая Гвинея).
Я думаю, что более чем однократный переход от билатеральности к матрилинейности действительно возможен, но он требовал бы самостоятельного открытия земледелия, что в истории земли происходило нечасто. Вероятно, что самостоятельных центров возникновения земледелия в истории планеты было не больше четырех. Первый – это Левант, хорошо и многократно описанный. Второй – в Старом Свете – Новая Гвинея, но открытие здесь земледелия не могло привести к матрилинейности, причины чего мы еще обсудим. И наконец, есть два самостоятельных центра в Новом Свете. Они привели к развитию того, что археологи скромно называют incipient agriculture («зарождающееся земледелие»). Это ненавязчивое земледелие тысячелетиями могло сосуществовать с охотой-собирательством, не приводя ни к какой социальной перестройке. И только когда навыки развитого земледелия, в котором этот способ производства пищи занимает доминирующее положение в экономике, оказались привнесены в Новый Свет из Старого в результате доколумбовых трансокеанских путешествий ранних земледельцев (культуры Вальдивия и проч.), в обеих Америках начали утверждаться системы матрилинейной социальной организации. С самого начала они, по разным причинам, находились в Южной Америке в антагонизме с автохтонными системами дискриминации женщин, и поэтому матрилинейность в этом регионе представлена довольно чересполосно. В Мезоамерике и южной, пригодной для земледелия части Северной Америки зоны матрилинейности более гомогенны. По сути дела, они всеобщи – это юго-восток (включая его «оффшот» – зону распространения ирокезов) и юго-запад США. Матрилинейной, скорее всего, была и раннеземледельческая Мезоамерика, но здесь культурные влияния из Старого Света, связанные с продолжающимися трансокеанскими плаваниями, привели к усложнению картины за счет развития сложностратифицированных обществ и, в конечном счете, государства, которое просто несовместимо с матрилинейностью.