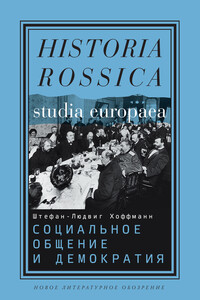Иррациональное в русской культуре. Сборник статей | страница 90
В своей известной книге «Толстой и Достоевский» (1899–1901) романист-символист Д.С. Мережковский (1865–1941) писал о смысле болезни. Он утверждал, что если мир был спасен страшными ранами Христа, то такие категории, как болезнь и здоровье, нуждаются в пересмотре. Из этих соображений Мережковский выводит свою концепцию «здоровой болезни», способной породить подлинные жизненные силы[261]. Подобно тому как бескрылому насекомому нужно переболеть в своем коконе, чтобы обрести крылья, так и то, что кажется болезнью, может стать началом истинной жизни. Аналогичным образом Мережковский оспаривал и болезнь Достоевского: «Сила ли его от болезни, или болезнь от силы?»[262] Идея Мережковского о «здоровой болезни», ведущей к высшим формам существования, близка к представлениям Розенталь о страданиях и болезни как творческих стимулах.
Много писал о Достоевском и Н.Н. Баженов (1857–1923) —человек широких взглядов, входивший в число русских психиатров-реформаторов. В своей статье «Больные писатели и патологическое творчество» (1903) он делал вывод о том, что «сочетание большого таланта с большими страданиями души» сделало Достоевского выдающимся писателем и психологом[263]. Опять же, страдания рассматриваются Баженовым не как слабость, а как отличительная черта и источник силы.
Розенталь, ссылающаяся и на Мережковского, и на Баженова, заимствует у них идею о страданиях как об источнике креативности и дополняет ее психоаналитическим механизмом проекции. Оставляя за кадром религиозно-метафизические мотивы Мережковского, она подчеркивает терапевтический эффект творческого самовыражения. Таким образом, ее работа служит примером тесных связей между русским символизмом и психоанализом, разбираемых Александром Эткиндом в его исследовании «Эрос невозможного» и Магнусом Люнггреном в его работе о такой важной фигуре, как Эмилий Метнер (1872–1936), и влиянии последнего на К.Г. Юнга[264].
После разговора о целебных свойствах творческого процесса Розенталь определяет эпилепсию Достоевского как аффективную эпилепсию, которую выделял берлинский психиатр Эмиль Братц, в 1911 году издавший работу «Припадки аффективной эпилепсии у невропатов и психопатов». Этот тип эпилепсии, не признаваемый современной наукой, якобы вызывался не физиологическими причинами, а сильнейшим психическим возбуждением. Считалось, что аффективная эпилепсия, в отличие от истинной эпилепсии, не вызывает расстройства личности или ее деградации. Розенталь усматривала подтверждение этого диагноза в том факте, что психическое состояние Достоевского стабилизировалось после его сибирской ссылки и что его творческие способности нашли в его поздних шедеврах максимально полное выражение