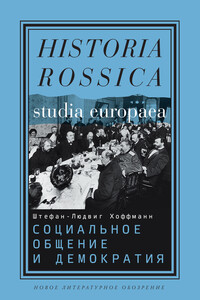Иррациональное в русской культуре. Сборник статей | страница 85
«Горизонтальная» подвижность Квашнина-Самарина и личный опыт взаимодействия с самыми разными стратами общества (от столичной аристократии, к которой принадлежали его ближайшие родственники, до тюремных надзирателей, обитателей петербургских «трущоб» и провинциальных торговцев и чиновников) дали ему возможность занять интересные точки наблюдения над современными ему социальными процессами. При всей ограниченности политического и литературного кругозора его литературные и «экспертные» сочинения, посвященные российской политике и обществу 1830–1870-х годов, отличаются большой проницательностью. Однако ни географические перемещения, ни личные потрясения, ни литературные и переводческие опыты не дали Квашнину-Самарину главного – адекватного языка для описания увиденного и пережитого. За исключением нескольких сохранившихся прозаических фрагментов, он так и остался литератором-дилетантом, обреченным униженно просить чиновников III Отделения о денежном вспомоществовании.
ДОСТОЕВСКИЙ И КОНЦЕПЦИИ ИРРАЦИОНАЛЬНОГО В РАННЕМ РУССКОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ
Сабина Майер Цур
Не нужно сильно стараться, чтобы найти в романах Ф.М. Достоевского всевозможные описания психологических проблем и обширный каталог душевнобольных, невротичных и безумных персонажей[239]. И потому неудивительно, что его творчество вызывало профессиональный интерес со стороны врачей и психиатров и быстро получило признание в качестве обширной сферы для исследований. Помимо этого, много вопросов вызывали также личность самого Достоевского и его загадочная болезнь. Одним из первых русских психиатров, писавших о Достоевском, был В.Ф. Чиж, в 1885 году указывавший, что произведения Достоевского представляют собой «энциклопедию психопатологии» в том, что касается числа описаний душевных расстройств и их «качества, справедливости и точности»[240]. Вдохновляясь этими мастерскими описаниями психологических проблем, литературные критики, а также психиатры выдвигали предположения относительно болезни самого Достоевского и пользовались ею как инструментом для решения собственных задач[241]. Вскоре в дискуссии о Достоевском зазвучали голоса первых русских психоаналитиков, создавших свой собственный дискурс на эту тему.
Задолго до того, как Фрейд написал свое эссе «Достоевский и отцеубийство» (1928), из-под пера двух его русских коллег уже вышли трактаты о Достоевском. Первым русским психоаналитиком, писавшим о Достоевском, была малоизвестный врач Татьяна Розенталь (1884–1921). Ее статья «Страдание и творчество Достоевского» положила начало ряду работ о Достоевском, созданных русскими психоаналитиками в 1920-е годы. Тем самым Достоевский, поэт человеческой души, стал неизбежной приметой раннего русского психоанализа.