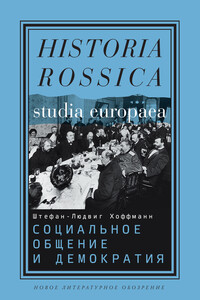Иррациональное в русской культуре. Сборник статей | страница 84
Идею, стоящую за «античернышевским» памфлетом Квашнина-Самарина, легко разглядеть и без параллелей с его автобиографической лирикой: даже самые отъявленные преступники не заслуживают столь жестокого обращения, какому подвергаются в российских «исправительных учреждениях» попадающие в их стены (и застенки) люди.
В художественной прозе, не скованный требованиями соблюдения ритма и рифмы, определенных синтаксических конструкций и идиом, а также представлений о том, как должен звучать голос «страдающего ссыльного» в обращениях к дисциплинарным инстанциям, Квашнин-Самарин чувствовал себя свободнее. Ему удалось, хотя бы и ненадолго, найти баланс между стандартами сатирического бытописания и трагическим мироощущением социального изгоя и политического изгнанника, которое, несмотря на все позднейшие верноподданные и благонамеренные декларации, он сохранил до конца жизни.
Мне удалось обнаружить в материалах дела Квашнина-Самарина несколько очерков из неопубликованного прозаического цикла «Доходы от места». Весь цикл был, судя по предисловию, посвящен извечно актуальной в России теме коррупции, а его первая, дошедшая до нас часть – коррупции в местах содержания арестованных. Были ли написаны другие задуманные очерки, сказать трудно.
При всей литературной неквалифицированности автора меткость его наблюдений позволяет сравнить его не только с Достоевским, описавшим нравы и обычаи Мертвого дома, но даже в некоторых отношениях с первооткрывателем «человека ГУЛАГа» Варламом Шаламовым. Квашнину-Самарину удалось перевесить наивность и непрофессиональность описаний точностью и проницательностью социальных и антропологических наблюдений. К сожалению, ограничения объема не позволяют привести здесь развернутых цитат из сохранившихся очерков или опубликовать их в приложении. Надеюсь, что такая возможность представится в рамках другой работы.
Случай Квашнина-Самарина представлял большую сложность для российских дисциплинарных институций 1830–1870-х годов – не меньшую сложность он представляет и для современных исследователей. Его социальное поведение настолько плохо вписывалось в существовавшие в то время нормативные представления и конвенции, что его конфликт и с политическими властями, и с ближайшим социальным окружением был неизбежен и порой принимал острые формы.
Не исключено, что те сценарии реакции на этот конфликт, которые предлагал Квашнину-Самарину тогдашний социокультурный репертуар, исчерпывались или позой «дурачка», «юродивого», или стратегией олитературивания и одновременно умаления собственного образа (в том числе и речевого). В состоянии эмоциональной неустойчивости и большой материальной и социальной уязвимости регулярная практика использования таких сценариев реакции могла привести к серьезному психическому страданию.