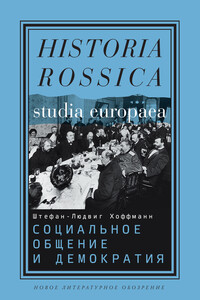Иррациональное в русской культуре. Сборник статей | страница 70
Некоторое (впрочем, поверхностное) сходство с характеристиками и текстами Квашнина-Самарина можно обнаружить скорее в описании второй степени слабоумия, или глупости:
[Больные бывают. – М.М.] весьма набожны, боязливы и совершенно преданы тому, к кому имеют доверенность; в предприятиях своих медленны, нерешительны, либо напротив того скоры и опрометчивы; беспрестанно почти перебегают от одного предмета к другому, разговаривают с собою, даже и при посторонних; пристрастны к спиртным напиткам и другим сильным раздражениям; чувствительны к обидам, даже и там, где совсем оных нет; легко приходят в гнев, ярость и самое бешенство и проч. [224]
Фрагменты этого или какого-то похожего определения могли прийти на память Бенкендорфу и его сотрудникам при работе с делом отставного поручика. Однако диагностированная вторая степень слабоумия уже не предполагала дееспособности и влекла за собой лишь ограниченную ответственность за совершение уголовных преступлений[225].
Можно предположить, что чиновники, знакомые с правоприменением по делам слабоумных, по-разному градуировали «диагноз» Квашнина-Самарина и, следовательно, применяли к нему разные дисциплинарные меры: в одних случаях более адекватной формой изоляции для него считали ссылку, а в других – заключение в клинику для душевнобольных.
Иначе говоря, в истории Квашнина-Самарина мы видим несколько иную ситуацию, не похожую на те, что анализирует Фуко. Согласно Фуко, «классическая эпоха [до начала XIX века. – М.М.] не стремилась установить строгие границы между безумием и заблуждением, между сумасшествием и злонамеренностью»[226]. Установление таких границ и медикализация психической болезни в XIX веке становится возможной только после завершения «классической эпохи». В случае Квашнина-Самарина, рассматривавшемся, согласно Фуко, уже в эпоху медикализации сумасшествия, российские чиновники не хотели брать на себя ответственность за определение того, насколько вменяем субъект, с которым они имеют дело. Этот отказ от ответственности вкупе с готовностью изолировать Квашнина-Самарина от общества вносит некоторые дополнительные штрихи в разработанную на европейском материале концепцию Фуко.
Другой важной особенностью медицинского контекста этой истории являются новые идеи и методы, пришедшие в российскую психиатрию к концу 1840-х годов под влиянием работ уже упомянутого французского психиатра Ж. Эскироля, его учителя Филиппа Пинеля и коллеги и последователя Шарля Кретьена Анри Марка. Обобщив опыт европейской психиатрии 1830-х – начала 1840-х, российский медик Алексей Назарьевич Пушкарев выпустил в 1848 году книгу «О душевных болезнях», в которой, вослед Эскиролю и Марку, предложил радикально новый взгляд на психические недуги, разделив их на 1) болезни воли, 2) болезни разума и 3) страсти