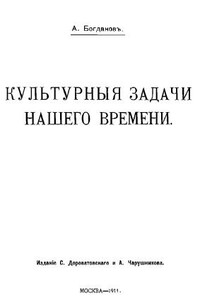Нагота | страница 31
Сила в основе своей есть то же бессилие, каждая способность делать что-либо по определению подразумевает способность не делать чего-либо, и это – ключевое достижение теории способности, которую Аристотель развивает в IX книге «Метафизики». «Неспособность [adynamia], – пишет он, – это лишённость, противоположная такого рода способности [dynamis], так что способность всегда бывает к тому же и в том же отношении, что и неспособность»[59] (Met. 1046a, 29–31). «Неспособность» означает здесь не только отсутствие способности, невозможность делать что-либо, но также и прежде всего «возможность не делать чего-либо», возможность не задействовать собственную способность. Именно эта двойственность, характерная для любой способности, именно постоянно присутствующая способность быть и не быть, делать и не делать и определяет человеческую способность вообще. Таким образом, человеку, этому живому существу, наделённому способностями, доступно и одно, и другое, противоположное первому, ибо он может как действовать, так и не действовать. Поэтому он больше кого бы то ни было рискует ошибиться, но в то же время это положение позволяет ему свободно накапливать и подчинять себе собственный потенциал, превращая его в «умение». Ибо не только объём того, что кто-либо может делать, но также – и в первую очередь – потенциальная способность поддерживать связь с самой возможностью этого не делать определяет важность его действий. В то время как огонь может лишь гореть, а другие живые существа могут действовать лишь в меру свойственной им способности, иными словами, они могут вести себя только так или иначе, в соответствии с их биологическим предназначением, то человек – это животное, которое способно на собственную неспособность.
Как раз на эту, менее очевидную, сторону способности и опирается сегодня власть, не без иронии именующая себя «демократической». Она отделяет людей не только и не столько от того, что́ они могут делать, сколько от того, чего они могут не делать. Сегодняшнего человека отделили от собственной неспособности, лишили представления о том, чего он может не делать, и в итоге он верит в своё всемогущество и повторяет радостное «Проще простого!» или безответственное «Будет сделано!», когда на самом деле он должен понять, что он каким-то непостижимым образом оказался во власти сил и процессов, контролировать которые он совершенно не в состоянии. Он слеп не к своим способностям, а к своим неспособностям, не к тому, что́ он может делать, а к тому, чего он не может делать или же чего он может не делать.