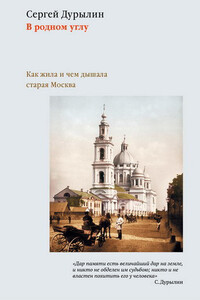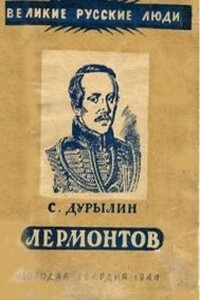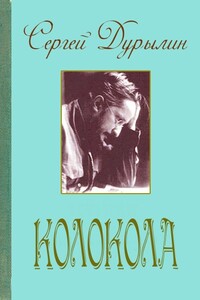Тихие яблони. Вновь обретенная русская проза | страница 43
Дети росли, а прадед смотрел на них внимательно и толково, с легким укором говаривал прабабке:
– Эх, мать, маленько ты ошиблась: родить бы тебе Аришу мальчиком, а Ванюшку девчонкой.
Молчаливая прабабушка здесь переставала молчать и с неудовольствием замечала мужу:
– Помолчи-ка ты, Прокоп Иваныч. Досадно тебя слушать.
Но прадед вздыхал и упрямо приговаривал – и чем взрослее становились дети, тем больше:
– Ошиблась, мать, ошиблась. Что уж говорить, ошиблась!
Прабабушка досадливо смолкала, не смея спорить, уходила к себе и настоятельнее обычного спрашивала: «Да, „мой“-то помер, что ли?» – и, получив ответ: «Готов, матушка, готов», – успокаивалась, только когда «мой», выставляя свое серебряное пузо, шипел на столе.
Но прадед был прав, и прабабушка это знала: девочка росла бойкая, смышленая, живая, крепкая, а мальчик был тихоня, сидень, нелюдим.
Расти было детям привольно. Прадед купил дом в Закраине, конце города; дом был как усадьба. Долго-долго тянулся по тихой улице высокий забор, утыканный поверху гвоздями, чтоб вор не перелез; за забором широко и просторно зеленел двор с качелями на высоких столбах, с скрипучим колодцем, с тремя собашницами, в которых сидели на цепях собаки, на ночь спускавшиеся на волю, с погребами, конюшнями, кладовыми, подвалами, сараями, курятниками, хлевами. Дом был из белого камня, старинный, еще помещичьей стройки, двухэтажный. Нижний этаж был в пологих сводах, окна низкие, с решетками; там была молодцовская – три горницы, где жили холостые приказчики и мальчики из лавки, кухня, людская для прислуги; в верхнем этаже были «парадные комнаты» – зало с белыми стенами, бронзовой люстрой, с бронзовыми «настенниками», в которых были вставлены свечи, столовая, спальня и детская на антресолях, с низким потолком, с широкой изразцовой лежанкой, с горбатыми и певучими сундуками и укладками. А за домом был сад, и баня в саду, в ивановом-чаю и жимолости.
Сад начинался у дома обмазанными по стволам глиною яблонями, тонкими, хрупкими вишнями, а далее сад густел кустами цепкой, густой малины, колючим крыжовником, черною и красною смородиною, – а еще далее сад дичал и темнел сплошными зарослями орешника, белел нежными, гнучими березами, высокою, спокойною рябиною, тополем, кленом, ольхою. Только осины не было в саду; как принималась расти, ее, заметив, срубали: нехорошее дерево, Иудина память. Зовет человека в горький час: «Убей, убей себя!» – и вздрагивает от горечи, от нетерпения.