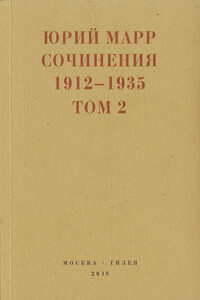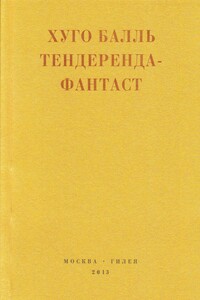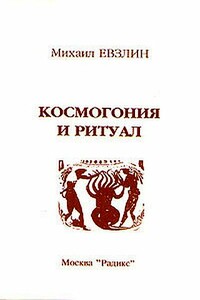Обэриутские сочинения. Том 2 | страница 71
Это очень точное определение в отношении Бахтерева: он – не только автор, но также «иструмент изменений» по отношению к собственным произведениям[20]. Но в каком смысле? Очень показательно отношение Бахтерева ко времени. Оно для него как бы и вовсе не существует: неизменность изменений, текучесть, в действительности есть неподвижность. Но неподвижность времени есть также его отсутствие, несущественность, несущность. Сам Бахтерев об этом говорит: «да это было написано в 1930, но вы понимаете, я написал почти то же самое в 1928, да и сейчас могу написать это же самое»[21]. Но всё же совсем то же самое Бахтерев не пишет, а только почти. Это «почти» есть результат проникновения времени в его почти герметические создания. Это проникновение, как действие воды и ветра на песочные конфигурации, имеет исключительно коррозийное влияние, т. е. отношения со временем у Бахтерева – окончательно отрицательные. Он – «инструмент», но в том смысле, в каком инструментом являются вода и ветер. Созданный им текст со временем подвергается внутренней энтропии. Заклейками он как бы пытается заполнить образовавшиеся в тексте «обвалы».
В последнем известном варианте «миракля»[22] коррозия достигает своей предельной точки. Этот укороченный «миракль» производит впечатление фрески, с которой попадали целые куски. Полностью выпала, по сравнению с Ночным мираклем, сцена с ангелом-путешественником. Другие обвалившиеся куски, которые были в начале, Бахтерев переносит в конец. Одним словом, это уже совсем не то. Как древние стенные росписи, так и его кукло-комедия дошла до того предела, когда она вот-вот должна слиться с первозданными элементами, из которых когда-то выделилась. В своих последних конфигурациях эта текучесть вариантов становится принципиальной (насколько вообще можно говорить о «принципиальности» в отношении Бахтерева), предваряющей распад текста-мира. Простое сравнение вариантов «миракля» отдаёт решительное предпочтение Обманутым надеждам. Возникает вопрос: почему Бахтерев публикует явно худший вариант, оставляя неопубликованным явно лучший? Неужели он сам не сознавал, что у него лучше, а что хуже? И почему, имея в последние годы жизни возможность публиковать свои обэриутские сочинения[23], он как бы забывает, например, о таком своём шедевре, как Ночные приключения? Этой маленькой поэмы было бы достаточно, чтобы обессмертить его имя в русской литературе.
В этом отношении Бахтерев сам по себе был архетипическим явлением. Чем ближе и внимательнее соприкасаешься с его рукописями, тем настойчивее возникает образ Вишну, играющего в одиночестве под Мировым деревом на островке посреди первобытного океана. Во что он играет? В песок, в камушки, из которых он строит мир. А потом его разрушает, заново перекладывая камушки или заменяя их другими, потому что материал, из которого он строит мир, – сам по себе неустойчив (песок!). Так и Бахтерев вечно строит-перестраивает свои миры-тексты. Он – не только инструмент создания, но также инструмент разрушения. Бахтерев, думается, вполне осознавал это архетипическое качество своего творчества, и поэтому он публикует не лучший и самый целый вариант своего «миракля», а худший и самый разрушенный. Это означает – и сам Бахтерев со всей возможной определённостью на это указывает – что его «миракли» существуют не как отдельные, закрытые в себе тексты, один хуже, другой лучше, – а как целостный процесс созидания-разрушения. Своими текстами он как бы иллюстрирует древнее индийское убеждение о бесконечном чередовании миров, которое принимает у него совершенно уникальную форму миракля-распада.