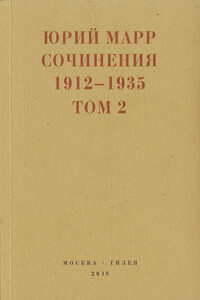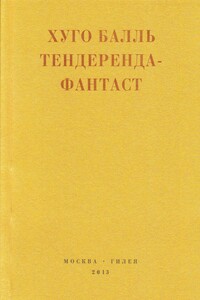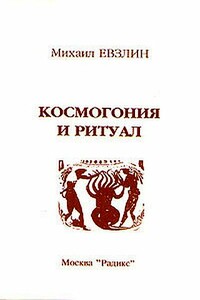Обэриутские сочинения. Том 2 | страница 69
Есть что-то очень неутешительное в этом «миракле» великого поэта. Если в надеждах, хотя и Обманутых, есть какая-то внутренняя обоснованность для движения героев по лестнице ангелов, которая оказывается лабиринтом, заводящим их к Минотавру Гаврилычу, то в Ночном миракле она отсутствует совершенно. И хотя подвальные гости вроде бы собрались для того, чтобы наблюдать за мираклем, никакого миракля они не ждут. И в самом деле, какой чудо-миракль может быть в подвале? Возможно, что Бахтерев пародирует ожидания святых мучеников, сидящих в башне, в яме, в совершенной тьме, в которой им является Божий свет («миракль»). В тексте намёк на это можно усмотреть в «свят, свят» [Бахтерев 2001 II, с. 55], после чего герои, пришедшие просить переселенья, навсегда перемещаются в «комнату», оказывающуюся всё тем же подвалом, из которого их уже не выведет никакой миракль.
Из Обманутых надежд переносятся в Ночной миракль целые блоки, которые к нему, однако, никак не приклеиваются. И хотя Бахтерев расцвечивает их заклейками, они в этом подвале совсем обесцвечиваются. Как публика зашла не в тот подвал, так и рыбак Петров и красивенькая Пинега произносят не те речи. Первый диалог между ними – это язык заводных размалёванных кукол:
«Он: красивенькая! Ты куда? Она: Вон туда. Он: И я сюда. Она: А я отсюда. Он: Значит по пути» [Бахтерев 2001 II, с. 26].
В своём качестве кукольной речи этот диалог замечателен: не на этом ли языке заговорила вдруг вся Россия? Далее начинается «поправление», которое переходит в самое обыкновенное кривляние. Ощущение, что в кукле действительно что-то «поправили», и она вместо того, чтобы почтительно приседать и вежливо произносить bon jour, вдруг стала ни с того ни с сего кувыркаться, плеваться и выделывать всякие другие непристойные жесты, а потом вдруг запела мелодраматическую арию в совсем неподходящем для этого месте. Самым точным комментарием ко всему этому могут служить заключительные слова: значит амун / значит – амук / значит – аминь [Бахтерев 2001 II, с. 60].
Само по себе разглядывание пестрящих заклейками рукописей Бахтерева, словно это не рукописи, а рукописные картины, создаёт впечатление, что он вовсе не меняет и исправляет, а играет, как ребёнок с разноцветными камушками. Для Бахтерева эти камушки – цветные наклейки со словами. Результат – «пёстрый и нарядный». А что касается, собственно, литературного результата, эти новые наклеенные слова «вовсе не были лучше или точнее, заумнее или длиннее»