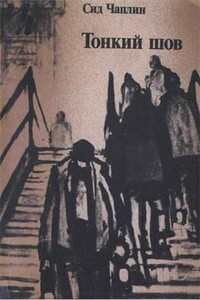Кажется Эстер | страница 91
Мой образ Анны соткан из разнородных и разрозненных нитей. Я знала только, что родилась Анна в Лодзи, дочерью мельника, Шуберт, «Прекрасная мельничиха», думалось мне, а еще я знала, что ее братья и сестры работали в текстильной промышленности, в Лодзи и не только, и стали состоятельными людьми. Анна, напротив, в далеком Киеве всю жизнь положила на огромное хозяйство мужниной школы для глухонемых, она и преподавала, и помогала в мастерских, не знала ни минуты покоя и вообще делала все, что требовалось делать ради детей. Даже на фотографии, которую Наташа пронесла и сберегла сквозь все ужасы войны, Анна запечатлена в переднике. Это мгновенный снимок, Анна едва успела или только собирается принять позу покрасивее, взгляд у нее гордый и требовательный.
Анна знала достаточно, чтобы не верить собственным словам о хороших отношениях с немцами, в конце концов, когда началась Вторая мировая, это ведь она отправляла посылки в оккупированную Варшаву и до 1941 года еще получала оттуда письма. Кого она думала этими «хорошими отношениями» утешить, пристыдить или обмануть? Моей тете Лиде было тринадцать, когда она видела Анну, свою бабушку, в последний раз, и она тоже немалую часть своей жизни провела в похожем переднике. Через шестьдесят лет после смерти Анны Лида, старая и больная, вдруг сказала, пойду к бабушке Анне, словно всю жизнь о ней думала, хотя никогда о ней не говорила. Может, она и передник in memoriam, в память о бабушке носила? Эти ее слова всех потрясли, дохнуло чем-то «оттуда», и все сразу поняли, что Лида сдалась, но в то же время она сделала выбор – она хочет уйти, так же как Анна сделала выбор, когда осталась в Киеве.
Лида не верила в бабушкину покорность судьбе. Учителя глухонемых не могут позволить себе покорности, вроде бы сказала она когда-то. Может, она имела в виду гордость Анны. Гордость учительницы, которая верит, что способна преображать людей как в войну, так и в мирное время, может, это даже заносчивость, гордыня – вера, что она, Анна Леви-Кржевина, в силах воспрепятствовать если не вторжению насилия, то хотя бы его эскалации, и не каким-то геройством, а неприятием, непризнанием насилия, неверием в возможность его или просто игнорированием его наличия. Слишком она была горда, что-бы спасаться от врага бегством, показать врагу спину, она осталась, чтобы показать ему свое достоинство и, возможно, тем самым его перевоспитать, словно, если она останется, если не поверит в зло в человеке, если откажется верить в это зло, особенно же в зло в немцах, – то и немцы поверят в свои хорошие отношения с Анной Леви-Кржевиной, а не в зло в себе, как будто если уж она сама в это верит или, по крайней, мере делает вид, то и те тоже поверят или сделают вид, Анна и немцы, так сказать, на взаимной основе, ибо если эта женщина из одного только чувства собственного достоинства не выказывает страха, то и не надо создавать для страха причин, ибо какой же визави откажется от столь щедрого и благородного предложения? Анна вызвала на дуэль всю непобедимую немецкую армию, но немцы даже не обратили внимания на выбор оружия. Выходит, гордость была для нее важнее выживания? Или она полагала, что только проигравшие сохраняют свою честь, проигравшие, разумеется, в военном смысле, в тот час, когда у них отнято последнее достоинство, или она просто не захотела жить, если происходит такое, что не оставляет никакой чести вообще?