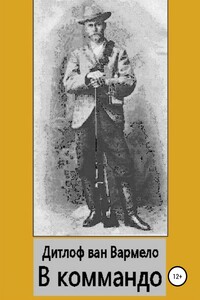Знаменитые и великие скрипачи-виртуозы XX века | страница 63
Вот что писал о нём И. М. Ямпольский в журнале «Советская музыка» № 12 в 1934 году: «Совершенно исключительно мастерское исполнение Полякиным небольших произведений. В этом репертуаре полностью развёртывается его своеобразная манера акцента, непреодолимое очарование чудесных “портаменто”, острота смычка и изысканность вкуса, заставляющие вспоминать гениального Крейслера. “Листок из альбома” Вагнера, 24-й этюд Паганини, Вальс Шуберта, “Венгерский танец” Брамса – всё это надолго останется в памяти слушателя». Этот же автор писал в 1938 году в газете «Советское искусство»:
«Для исполнительского искусства Полякина прежде всего характерна непосредственность художественных переживаний, которую Ауэр считал одной из драгоценнейших особенностей подлинной артистической индивидуальности. Полякин относится к той категории индивидуальности артистов, у которых непосредственная настроенность и эмоциональный подъём имеют решающее значение в исполнительском процессе. Полякин – художник, у которого вдохновенная порывистость и субъективное воспроизведение исполняемого доминирует над спокойной объективностью и рас-считанностью исполнения, а пластичность линий уступает место красочности звукового колорита. Отсюда известная неровность искусства Полкина – его изумительные достижения, а порой и срывы, неудачи. Те, кто склонны объяснять эту неровность исполнения Полякина якобы известной “предельностью” его технических возможностью – глубоко заблуждаются.
Прекрасно писал Генрих Гейне: “Вообще, виртуозность скрипачей не вполне является результатом беглости пальцев и голой техники, как виртуозность пианиста. Скрипка – инструмент, почти по-человечески капризный и находящийся в почти симпатическом соответствии с расположением духа скрипача; малейшее недомогание, самое лёгкое душевное потрясение, дуновение чувства находит здесь непосредственный отклик, и это, верно происходит от того, что скрипка так близко прижимаемая к нашей груди, слышит и биение нашего сердца. Но это относится только к тем художникам, у которых в груди бьющееся сердце, у которых вообще есть душа. Чем суше и бездушнее скрипач, тем однообразнее всегда его исполнение, и он может рассчитывать на послушание своей скрипки в любой час, в любом месте. Но ведь эта хвалёная уверенность – только результат духовной ограниченности: и как раз игра величайших мастеров нередко зависит от внешних и внутренних волнений. Я никого не слышал, кто играл бы лучше, а подчас и хуже, чем Паганини и то же самое я могу сказать в похвалу Эрнсту”».