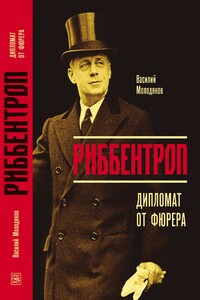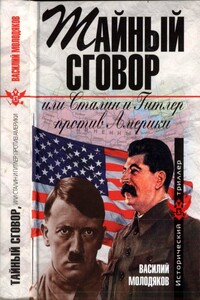Декаденты. Люди в пейзаже эпохи | страница 69
«Между тем в глубине души Верлена жило неодолимое влечение к иному кругу чувств, к тихой нежности, к мирным радостям домашнего очага. <…> Верлен, взрослый ребенок, путавший “Цветы Зла” и “Цветы мая”, ждал, жаждал любви, истинной любви, которая не приходила». И вот в июне 1869 года любовь нечаянно нагрянула в облике шестнадцатилетней Матильды Моте, сводной сестры приятеля. В эту «ничем не замечательную буржуазку»{36} поэт влюбился без памяти. Подробную – и совершенно обыденную – историю влюбленности, сватовства, ожидания, помолвки, свадьбы и «гнездышка» можно прочитать у Птифиса. Нам интереснее другое – перемены, происходившие в его душе, и их поэтический результат.
«Первая встреча, повидимому, решила всё, – писал Брюсов, опираясь на свидетельство Лепеллетье, «наперсника любви Верлена». – То был, действительно, тот “удар молнии”, о котором любили говорить старые романисты. Матильда Моте была первая, и едва ли не единственная, любовь, прошедшая через жизнь Верлена. Этот циник с головой фавна, этот верный любовник абсента, старость которого прошла среди продажных женщин самого последнего разбора, был “однолюб”, как самый наивный из романтиков. Искатель мистического “голубого цветка”, он лишь раз в жизни прикоснулся к нему и, цинически воспевая в своих позднейших поэмах “неверности” своих возлюбленных, сам был более верен единственному чувству своей жизни, чем Новалис или Шелли, образы которых мы так привыкли сравнивать с ангелами».
К моменту знакомства Матильда уже слышала, что «мсье Поль» – поэт, причем великий, и читала его стихи. Результатом нового прилива вдохновения стал сборник «Милая песенка»{37} («La bonne chanson», 1870) – свадебный подарок невесте и обещание «новой жизни» с отказом от греховных привычек старой, «история внутреннего перерождения героя, когда омраченная душа становится радостной»[106]. В книгу, которую Брюсов определил как «переход от поэзии чисто-описательной… к поэзии личного чувства», вошло одно из самых «верленовских» стихотворений, которое переводили М. Давидова (1893), И. В. (в подписи только инициалы. – В. М.) (1896), Ратгауз (1896), Эллис (1904), Ольга Чюмина (1905), Владимир Ивановский (1909), не говоря о позднейших работах. Первый вариант перевода Брюсов опубликовал еще при жизни автора, в октябре 1894 года, во втором сборнике «Русские символисты»: