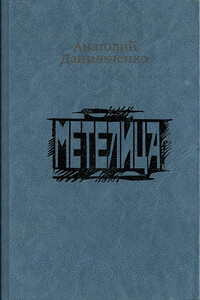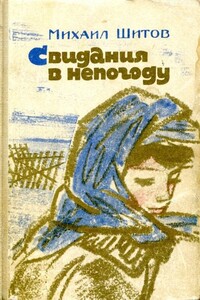Синее око | страница 30
Все мы кричали и хлопали в ладоши, тянулись к неграм, к финнам и австрийцам. Но когда поехали мимо чехи, у меня вышибло слезу — до того они были в доску свои ребята. Ревели от восторга, завидев китайцев, болгар и венгров.
Израильтяне ехали очень медленно. Я стал упорно глядеть на одного из них. Израильтянин меня заметил. Я помахал ему рукой. Он улыбнулся. Я погрозил ему пальцем: «Смотри, парень!» Он подмигнул мне: «Всё в порядке». Я снова помахал ему рукой.
Васька тоже махал, как и все. Я иногда взглядывал на него. Он хлопал в ладоши и кричал: «Мир, дружба!»
— Это смешно, это смешно, — сказал он мне после. — Все кричат: «мир, дрюжьба». Это смешно.
Милиционеры не устояли. Да и не очень-то они старались устоять. Не такой был день. Москвичи и москвички перемешались с машинами и автобусами, пошли с ними рядом, дружески трогая их руками, похлопывая их по кузовам, кабинам и окнам. Мы с Васькой пошли следом за автобусом с надписью: «Франция». В нем ехали одни француженки. Все они протягивали руки и шевелили пальчиками, будто только что сделали маникюр.
— Вася, — сказал я, — а что если я поцелую очаровательную парижанку? Ведь можно это позволить себе один раз в жизни. Ведь больше никогда не удастся.
Васька вдруг засмущался, даже покраснел. Наверное, у него тоже были кое-какие мысли насчет парижанок.
— Брось, — сказал он. — Не заводись. Отдохни.
Я догнал автобус и долго шел с ним бок о бок. Парижские пальчики были совсем рядом, у самого моего лица. Я захватил один такой пальчик и от волнения не сразу понял, чей он. Все лица в автобусном окошке перестали быть для меня лицами. Они безнадежно перемешались. Кажется, все француженки были блондинки. А может быть, нет.
Я побрел своими спотыкающимися пальцами по чьей-то руке. Когда я добрел до половины, то увидел, куда бреду. Я увидел глаза и губы. Глаза смотрели на меня. Сейчас мне их не вспомнить. Меня обуял страх. Это был даже не страх, а ужас. До губ и до глаз оставалось меньше метра. Но на этом малом пространстве было очень много всякой всячины. Тут были и государственные границы, и горы прочитанных газет, и глыбы усвоенных понятий о жизни, о границах и о правилах поведения. Тут было всё, преподнесенное мне за 26 лет в учебных заведениях, на комсомольских собраниях и на службе. Сердце мое толкалось сильно и редко. Чтобы подкрепить себя, я твердил не имеющее смысла слово: «надо, надо, надо, надо...» Я чувствовал, как от этого слова во мне проклевывается могущественное чувство долга: надо!