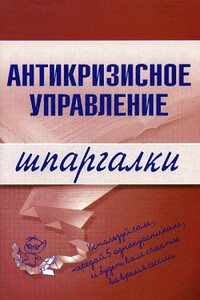Семь преобразующих языков | страница 24
Существуют проблемы, подсказывающие нам решения, проблемы, изменяющие сам способ нашего мышления. Такие проблемы называются «хорошими», и разумнее будет не спешить разделаться с ними. Чего добивается учительница, задавая детям на дом сколько-то математических задач? Разве она поступает как работодатель, распределивший между работниками задания, и ждет, что они принесут ей готовые решения, которые она сможет продать, как в прежние века продавали сотканную на дому ткань? Очевидно же, смысл не в том, чтобы школьники побыстрее закончили решать задачи. На самом деле, если задачи решаются слишком легко, учителю следует подобрать другое задание, ведь важно, чтобы задачи заставили их думать. Хорошая задача вынуждает ученика напрягать все силы и что-то менять в своих математических представлениях. Хороший учитель не оставляет учеников в покое (в правильном смысле), он создает для них проблемы ради их же блага. Совокупность хороших проблем, на которых человек учится, складывается в «программу обучения».
Взрослый человек не меньше школьника нуждается в изобилующей задачами программе обучения, в наборе хороших проблем, с которыми он может пожить, повозиться. Но у взрослых нет педагогов, которые бы умело составили подобный план обучения. Мы сами находим уроки в повседневном опыте, выводим их из тех самых форм поведения, которые нам только что удалось установить: из своего с виду неподобающего поведения, которое мешает нам полностью реализовать свои ценности.
В первой главе мы предложили вам не отказываться от жалоб, разочарований и критики, но отнестись к ним с уважением, сохранить их и преобразовать в язык ценностей. Теперь мы призываем вас оставаться при своем неправильном поведении (вместо того чтобы как можно быстрее его исправить или от него избавиться). Таким способом вы сумеете глубже осознать свои формы поведения и подготовитесь к тому, чтобы преображаться (а не просто исправляться). В конечном счете новогодние зароки не помогают нам исправить профессиональные промахи именно потому, что, приравнивая их к детскому непослушанию, «плохому поведению», мы отворачиваемся от собственной сложности. Мы пренебрегаем мощным источником такого поведения. Если не обратиться напрямую к самому истоку, подобное поведение изменить не удастся.
Какие формы языка помогут нам отнестись к своей сложности с большим уважением и большей ответственностью? Какой язык поможет создать из этих же самых неверных поступков материал для хороших проблем, на которых мы сможем учиться? Ответ на эти вопросы мы поищем в третьей главе, заполняя третью колонку концептуальной карты.