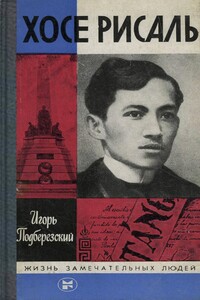Мой мальчик, это я… | страница 66
Так мне хотелось сказать, но я промолчал, по опыту зная, что главное — не проболтаться.
Друскина осуждали — на предмет исключения из Союза — не за какой-то проступок, несовместимый с уставом, а по совокупности кому-то неприятных черт его характера, по доносам и сплетням. Зачитали письмо Друскина в КГБ: Друскин просил органы посодействовать ему в отъезде за рубеж. Человек чистосердечно к ним обратился, а они завели на него дело. Очевидно, Друскин чего-то недопонимал, при его урезанном опыте. И он привык к тому, что ему помогают, обязаны помогать: печатать стихи, получить дачу, коляску, путевку, деньги на молоко, хлеб, колбасу. Об этом и говорили господа секретари: Друскин подл, неблагодарен; как будто не знали, каков он был, только теперь, когда на него стукнули, разглядели.
И о какой благодарности речь? Друскин обделен природой при рождении — радостями, даже изначальными простейшими ощущениями телесной жизни. Природа обошлась с ним несправедливо, как будто его без вины наказали, не допустили на главную солнечную лужайку жизни, где все мы пасемся. По-видимому, урезанная телесная жизнь предполагает гипертрофированную духовную деятельность, что как-то уравновешивает, сглаживает несправедливость. Зрением усеченного, больного, втиснутого в коляску существа Друскин многое видел, чего не дано увидеть в себе жирующим, жуирующим, преуспевающим — и он не мог простить им их физического превосходства над собой, их благодеяний. Он знал, что благодетели накапливают капитал, рассчитывают на нем въехать в рай; чувствовал нравственное превосходство над своими благодетелями, питал презрение к ним. Это находило выход в исповеди Друскина «Как перед богом». Я думаю, так.
В письме-доносе соседки содержалась еще одна деталь, придающая пикантность истории, а то бы скучно было в ней разбираться. Исполненная патриотических, гражданских, верноподданических чувств, соседка Друскиных сообщала органам КГБ, что в квартире совместно с Друскиным проводил свои дни и ночи еще некто, сожительствовавший с женой Друскина. Тут темное дело, однако деталь давала пищу воображению.
Я вглядывался в лица выступавших секретарей, множество раз виденные мною, как говорится, в аналогичных ситуациях. Друскина обвиняли в ведении двойной жизни. Но способность обитать в слоях с разноименным идеологическим знаком свойственна многим — и мне. Вот Гранин — такой уж левый, почти диссидент, второй Солженицын — и в то же время на самом верху и в Москве и у нас, и все литнаграды у него в кармане, и за рубеж ездит, как в Комарово. Это надо уметь, такова наша жизнь, сверху донизу двойная.