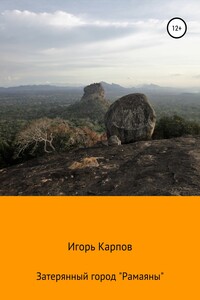Достоевский (и еврейский вопрос в России) | страница 24
Недюжинное мужество проявил Ф. М. на допросе. В своих письменных показаниях о том, что происходило на кружках Петрашевского, он поражает нас благородством, независимостью и правдивостью суждений, причем так, чтобы не пала тень ни на одного из его друзей по кружку. Ему очень тяжело, как художник он противостоит жестокости царских властей, но он не боится раскрыть свои подлинные убеждения. Более того, он пускается со следователями в литературную дискуссию. Вот его слова: «Я люблю литературу и не могу не интересоваться ею… Литература есть одно из выражений жизни народа, есть зеркало общества. Кто же формулировал новые идеи в такую форму, чтоб народ их понял, – кто же, как не литература!».
Члены комиссии просто пытаются подкупить Ф.М., призывая его признаться и рассказать все по данному делу. Достоевский фактов не отрицает: «Кто не будет виноват, если судить всякого за сокровеннейшие мысли его или даже за то, что сказано в кружке близком, тесноприятельском». Один из членов комиссии, ссылаясь на Государя, говорит Достоевскому, что он будет прощен, если признается, обо всем честно расскажет и раскается. Однако Ф. М. проявляет железную волю. Он молчит, хотя с пиететом относится к Государю и верит в возможное прощение. По поводу чтения запрещенной «Солдатской беседы» Ф. М. говорит: она «началась… нечаянно. Впечатление было ничтожно». Что касается письма Белинского, то Достоевский признал свою вину в такой форме, что он сделал ошибку и ему не следовало вслух читать эту статью. Но далее он, в сущности, опровергает свое признание: «…весь либерализм мой состоял в желании всего лучшего моему Отечеству… я никогда и не был социалистом, хотя и любил читать и изучать социальные вопросы».
Вместе с тем, здесь, в темнице у него наступает перерождение, как бы открывается второе зрение. Он понимает, что не туда зашел, что игры кончились. Он совершил преступление, и наказание закономерно и справедливо. И это вовсе не страх перед возмездием – это состояние внутреннего перерождения. Лучше всего об этом говорят слова самого Ф. М. Вот выдержка из его письма на имя друга – Врангеля (для передачи Тотлебену[18]): «Я был уличен в намерении (но не более) действовать против правительства; я был осужден законно и справедливо; долгий опыт, тяжелый и мучительный, протрезвил меня и во многом протрезвил мои мысли. Но тогда, когда я был слеп, верил в теории и утопии». Каторга была ужасна. «Но клянусь вам, не было для меня мучения выше того, когда я понял свои заблуждения, понял в то же время, что я отрезан от общества изгнанничеством и не могу уже быть полезным по мере моих сил, желания и способностей. Я знаю, что был осужден за мечты, за теории. Мысли и даже убеждения меняются, меняется и весь человек, и каково же теперь страдать за то, чего уже нет, что изменилось во мне в противную сторону…»