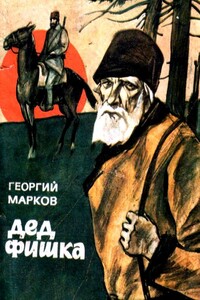Просто голос | страница 21
Наш гражданский статус в колонии был статьей довольно деликатной. С одной стороны, отец ушел из Сената добровольно, долги в конечном счете были отданы, и, продолжай мы жить в Риме, место в списке всадников практически подразумевалось — разве что муж царственной особы мигнул бы неодобрительно с Палатина, отец отечества в путах деспотического материнства, но для него это значило бы зайти слишком далеко. Я, впрочем, не по возрасту зол, здесь бы не повредила беспристрастная правка, а мертвые уже отомщены смертью же. В провинции переписью ведал пропрайтор, и его умелый взгляд легко различал облако немилости, дождившее на нашу кровлю. Но и ему было не с руки идти на демарши, потому что при нашей простоте нравов всякий гражданственный горшечник поимущественнее щеголял в узкополосой тоге, а что уж тогда говорить о семье отставного сенатора?
Не скажу дурно о добрых горожанах — они инстинктивно ринулись осыпать новосела поместными почестями, и, хотя отец большей частью благодушно отмахивался, его все же избрали фламином Эркула и попечителем коллегии кирпичников при храме. Была еще коллегия пахотных колонистов, большей частью нелюдимых бородачей, которые съезжались на свои обеды раз в год, набирались по уши неразбавленным и расползались по норам, с остановившимися глазами, с неповоротливыми, задубевшими в походах шеями, — товарищи моей предстоящей жизни.
Кирпичники были совсем иное дело — народ городской, разговорчивый, без той спеси свободнорожденных, которой, по праву или нет, полыхали ветераны за боронами. С их казначеем, рыжим и обстоятельным галлом, державшим мастерские в крутой узкой улочке над цирком, нас даже связывало нечто вроде дружбы, и мы иногда навещали его перед играми, по делу или просто для беседы, сейчас мне трудно сообразить, но отец, похоже, предпочитал его непритязательную болтовню ученому гомону Артемона. От ворот ипподрома дорога взмывала влево; здесь, вблизи фора Кайсара, еще в лесах и мраморном грохоте, в радостной ругани строителей, расходящихся в бани, жили горожане поименитей и посостоятельней, иные в возведенных по памяти приблизительно греческих домах с выбеленными до боли в солнечный день наружными стенами, на которых кроны платанов и смоковниц высекали свои синие прохладные тени. Но в полумиле запутанного подъема, где носильщикам порой приходилось пускаться в мудреные маневры меж стремительно сходящихся стен, где шесты безвыходно упирались в дорожный камень и отец отдирал меня, изнемогающего от изумления, от почти вертикальных перил над метнувшимся к зениту морем, над известковой, почти коралловой геометрией арок и спусков в радужных крапинах жителей, — там, на птичьем парении, где я навсегда полюбил мой первый город, склон понемногу снижался в плато, с выбитыми в камне дырами таверн, с цирюльниками, зазывающими на экзекуцию, на вспененной расторопной дороге, где устало звенела браслетами женщина еще неизвестных мне занятий, а прохожий пристально мочился в предусмотренный сукновалами вонючий чан, свободной рукой оберегая визитный плащ, мысленно поторапливаясь на зрелища и к застолью.