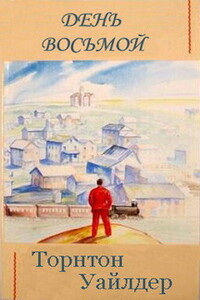Каббала | страница 7
Все это происходило тогда, среди тех людей, в то пасмурное утро, когда я впервые приехал в Рим, на той станции, которая была более чем безобразна и которую вода с хлоркой «украшала» не меньше, чем тошнотворный запах мочи. В дороге я обдумал, что буду делать сразу по прибытии. Я непременно напьюсь вина и кофе и посреди величавой ночи направлюсь вниз по Виа-Кавур. Перед самым рассветом я стану созерцать кафедру в Санта Мария Маджоре, которая будет нависать надо мной подобно Ноеву ковчегу, и дух Палестины в грязной сутане излетит из боковой двери и унесется на родину. Затем я поспешу на площадь перед Палаццо Латерано, где Данте бродил в праздничной толпе. Я постою на Форуме и обойду тесный Палатин. Я пойду вслед за рекой к постоялому двору, где Монтень страдал от своих жестоких недугов. В благоговейном созерцании замру перед скалоподобным обиталищем Папы, где творили величайшие художники Рима: и тот, который никогда не был несчастлив, и тот, который никогда не был счастлив[3]. Я должен познать мой путь, проложенный в мечтах на карте города, которая все восемь лет школы и колледжа висела над моим столом, — города, к которому я стремился так страстно, что в глубине души искренне не верил, что когда-нибудь увижу его.
Когда же я в конце концов приехал, станция оказалась пустой; не было ни кофе, ни вина, ни луны, ни духов. Была только скучная езда по сумрачным улицам среди плеска фонтанов и специфическое эхо от туфовых мостовых.
Всю первую неделю Блейр помогал мне искать и обставлять квартиру. Она состояла из пяти комнат в старом доме в Трастевере[4] по ту сторону реки и в двух шагах от базилики Св. Марии. Комнаты были высоки, унылы и пахли восемнадцатым веком. Потолок в гостиной был украшен кессонами с благопристойной росписью, в холле валялись куски отвалившейся штукатурки, еще хранившей бледные оттенки голубого, изжелта-зеленого и золотого тонов, и каждая утренняя уборка уносила еще один кусочек локона от какого-нибудь купидона, виток волюты или обломок гирлянды. Кухню украшала фреска — Иаков, противоборствующий Богу, но громоздкая печь почти загораживала ее. Два дня мы занимались тем, что искали стулья и столы, грузили их на подводы и лично сопровождали все это до нашей улицы, торговались в магазинах за длинномерную серо-голубую парчу, на все лады обсуждая фактуры, рисунки и колеры; среди бесчисленных подделок выбирали старинные канделябры, наиболее успешно симулирующие дряхлость и чистоту стиля. Приобретение Оттимы стало триумфом Блейра. Неподалеку, на углу, располагалась траттория, навевающая лень, — полная случайных посетителей и людского гомона винная лавчонка, владелицами которой были три сестры. Блейр некоторое время наблюдал за ними и наконец предложил одной из них, смышленой, веселой женщине среднего возраста, несколько недель побыть моей кухаркой. Итальянцы с отвращением относятся к долговременным контрактам, и это последнее условие сразу покорило Оттиму. Мы хотели нанять ей в помощь для тяжелой работы еще кого-нибудь по ее рекомендации, но она омрачилась при этом предложении и ответила, что с тяжелой работой очень хорошо справится и сама. Переезд в мою квартиру оказался промыслом Божиим для Оттимы, с ее жизненными проблемами и страстной привязанностью к своему делу, и для ее компаньонов по кухне: полицейского дога Курта и кошки Мессалины. Каждый из нас смотрел сквозь пальцы на недостатки других, и вместе мы создали дом.