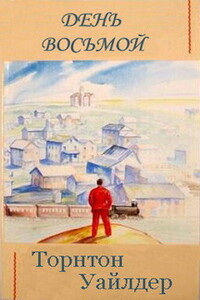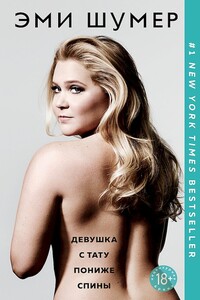Каббала | страница 4
В вагоне было холодно. Мы сидели в пальто, задумчивые; наши глаза то ли стекленели от смирения, то ли покрывались льдом. В одном из купе расположилась компания представителей того племени, которое в основном путешествует и извлекает из этого очень мало удовольствия. Они без устали разглагольствовали о чересчур дешевых отелях и слишком дорогих ресторанах. Дамы сидели, свернув у лодыжек свои юбки, дабы воспрепятствовать восхождению блох. Напротив развалились трое американских итальянцев, возвращающихся к себе домой, в деревню где-нибудь в Апеннинах, после двадцати лет торговли фруктами и драгоценностями на Верхнем Бродвее. Они вложили свои накопления в бриллианты, сверкавшие у них на пальцах, и глаза их сияли в предвкушении семейной встречи. Можно было представить себе их родителей, изумленно взирающих, неспособных понять причины, вследствие которых в их сыновьях не осталось того очарования, которое земля Италии дарует смиреннейшим из своих детей. Ничего, кроме того, что они возвращаются с луковицеобразными лицами, употребляющими варварские идиомы, утратившими навсегда остроумие и интуицию своей расы. Их матерям еще предстоят бессонные ночи озадаченных размышлений под квохтанье домашней птицы в тишине родного дома. В другом купе юная искательница приключений в серебристом манто прижалась щекой к дрожащему оконному стеклу. Напротив нее почтенная матрона с блистающими глазами держалась с вызывающей стойкостью, готовая перехватить любой взгляд, брошенный на ее подремывающего мужа девчонкой. В проходе два моложавых армейских офицера, подбоченясь, охорашивались и ловили взгляд юной путешественницы, подобные насекомым с глянцевых страниц Фабра, которые готовы начать брачные танцы даже перед камнем, стоит только затронуть соответствующие нервы. Здесь же расположились иезуит с воспитанниками, коротающий время переводом с латинского; японский дипломат, благоговейно ласкающий коллекцию почтовых марок; скульптор из России, мрачно изучающий строение наших черепных коробок; несколько студентов из Оксфорда, тщательно экипированных для бродяжничества — но только верхом на лошади — по изобилующей бродягами настоящими и не всегда миролюбивыми итальянской провинции; обыкновенная старая женщина с курицей и обыкновенный молодой американский зевака. Такая вот компания, из тех, что приезжают в Рим и уезжают из Рима по десять раз на дню с каждым поездом.
Мой спутник сидел и читал лондонскую «Таймс»: продажа недвижимости, военные действия и прочее. Его звали Джеймс Блейр. После шести лет классического образования в Гарварде его направили на Сицилию в качестве консультанта-археолога в кинокомпанию, отважившуюся перенести на экран греческую мифологию. Компания обанкротилась, ее ликвидировали, а Блейр пустился в скитания по Средиземноморью, пробавляясь случайными заработками и записывая в огромной тетради свои наблюдения и теории. Его голова была полна рассуждений: о химическом составе красок Рафаэля, о том, какое освещение выбирали античные скульпторы для своих работ, о датировке древнейших мозаик в Санта Мария Маджоре. Он разрешил мне записывать все это и многое другое и даже скопировать кое-какие схемы, сделанные цветными чернилами. В случае его гибели в море со всеми его записями — что отнюдь не исключено, поскольку он мотается по Атлантике на безвестных коммерческих суденышках, не упоминаемых в газетах, даже когда они тонут, — это будет мой печальный долг: передать в дар библиотеке Гарвардского университета его материалы, непостижность которых должна придать им неоценимое значение.