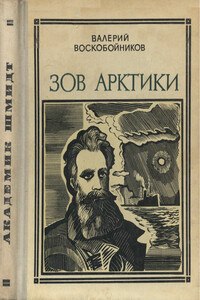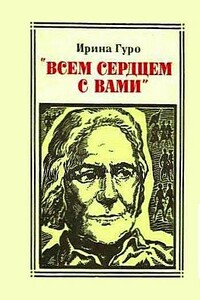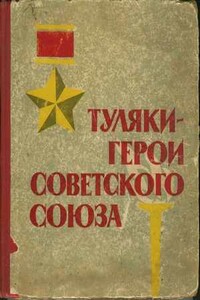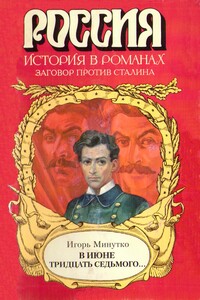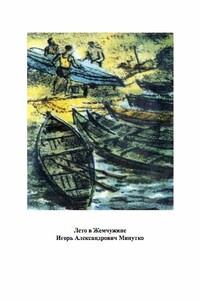Три жизни: Кибальчич | страница 16
— И что же? — нарушил молчание Андрей.
— Что? — Николай провел пальцем по формулам и столбцам цифр рядом с чертежом. — В совокупности — выделенная при горении спрессованного пороха энергия и ракета… Может быть, это как раз то, что оторвет человека от земли! Поднимет его в атмосферу! Человек будет летать. И очень даже вероятно, что именно ракета со временем вынесет человека за пределы земного тяготения. Андрей! Нет, ты вообрази: откроется путь к иным мирам! К тем, о которых написал Коля Морозов в своем стихотворении.
Желябов подошел к столу, и теперь это был член русской социально-революционной партии, руководитель «Народной воли», агент третьей степени ее Исполнительного комитета.
— Николай! — сказал он жестко. — То, что ты говоришь, грандиозно. Для будущего… Но теперь… Каждый день дорог… А ты…
— Погоди! — прервал его Кибальчич, и в голосе Николая была непреклонность. — Мои ночи принадлежат мне. Надеюсь, в этом вы мне не откажете? Я все понимаю. Я урывками, только ночами. А! Что говорить! Нужны опыты, лаборатория, специально оборудованная мастерская, помощники. Но, Андрей! Когда-нибудь наступит же такое время!
— Наступит, Коля! — тихо сказал Желябов, однако весь уже снедаемый нетерпением, несогласием: «Не имеет права инженер „Народной воли“ тратить свое бесценное время, свой уникальный мозг ни на что другое, кроме главного, сейчас, сегодня, немедленно нужного партии: смертоносного точного оружия».
И все-таки беспокойство, тревогу, разлад с самим собой испытывал Андрей Желябов: «Я в чем-то не прав?» Он будто новым взглядом увидел эту аскетическую комнату, заваленную книгами, рукописями, чертежами; большой письменный стол с колбами и инструментами, освещенный ярким кругом керосиновой лампы; темное окно, за которым уже была ночь, промозглая петербургская ночь. И ночь была над всей беспредельной Россией: по Владимирке под кандальный звон шли этапы заключенных, неторопливыми шагами мерил тюремную камеру Николай Морозов (и тогда еще никто — ни он, ни его товарищи по борьбе — не знал, что уже началось его двадцатидевятилетнее заключение); в огромном Исаакиевском соборе, призрачно освещенном тысячами восковых свечей в хрустальных люстрах, уже в который вечер шла торжественная служба — во спасение от злого умысла наместника божия на земле, самодержца всероссийского императора Александра, и церковный хор с лучшими басами из придворной капеллы сотрясал высокие своды: «Многия лета!.. Многия лета!..» Его взгляд задержался на остывшем самоваре, на прозрачных кусках лимона с белыми зернами, и он подумал: «Брошенные нами семена прорастут свободой и процветанием родины». Он увидел молодого, совсем молодого человека в меховой поддевке, с бледным аскетическим лицом, высокий лоб которого пересекала резкая морщина — его двадцатишестилетний друг склонился над чертежом своей невиданной конструкции, — и гармония в душе восстановилась. Андрей Желябов задохнулся от счастья, переполнившего все его существо; этим счастьем были и сопричастность к праведной борьбе, которой без остатка была отдана его жизнь, и ощущение, что все самое главное впереди, и чувство высокого товарищества, и понимание, что рядом с ним живут, полностью разделяя его взгляды, прекрасные люди и ими вправе гордиться Россия.