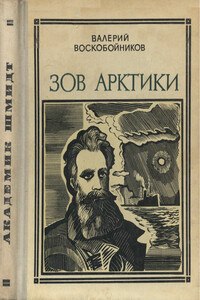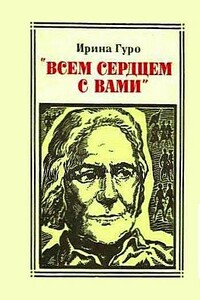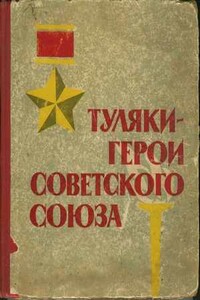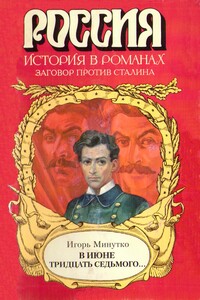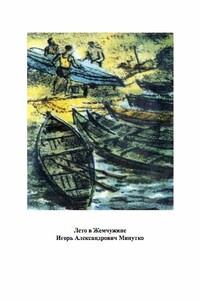Три жизни: Кибальчич | страница 11
…Все это вспомнил сейчас Желябов, поражаясь, как в несколько мгновений память до мельчайших подробностей может восстановить целую картину, кусок жизни.
«И это уже не повторится, — внезапно подумал он. — Мы другие. А ведь минуло меньше года».
Прошли по застекленной террасе, и Лилочка показала на дверь с затейливой бронзовой ручкой. Желябов постучал.
— Да! Прошу! — услышал он спокойный голос Кибальчича.
Андрей немного помедлил и открыл дверь.
Он раньше бывал на всех конспиративных квартирах Кибальчича. И странное дело, комнаты, в которых работал Николай, их обстановка не запоминались. Помнилось другое: атмосфера, окружающая Кибальчича, то, что непосредственно было связано с его делом. Вот и сейчас Андрей сразу увидел большой письменный стол, заваленный книгами, рукописями, чертежами; весь правый угол занимали колбы, мензурки, какие-то хитрые металлические приборы. Книги были на диване, стопками лежали на подоконнике, тут же были сложены журнальные гранки с отметками карандашом.
Окно комнаты выходило в глухую серую стену, и на письменном столе горела керосиновая лампа под синим колпаком, яркий круг падал на листы бумаги, покрытые строчками мелкого четкого почерка.
Все это видел Андрей из-за спины Кибальчича, который что-то быстро писал, низко наклонившись, ссутулив спину.
— Сейчас, — сказал он Желябову, не оборачиваясь. — Задерживаю статью в «Слово» уже на три дня.
В комнате было прохладно, знакомо пахло «химией» — так этот запах, всегда поселявшийся вместе с. Кибальчичем, называл для себя Андрей.
Под меховой поддевкой топорщились лопатки.
И, глядя на спину товарища, Желябов испытал внезапную нежность к этому человеку, щемящую нежность, соединенную с почти реальным предчувствием беды, предстоящей разлуки или гибели; будто уже надвигалось на эту комнату затворника нечто неумолимое, черное, беспощадное, что остановить невозможно. Он любил сейчас Николая любовью старшего брата и был полон вины перед ним: его бы за границу, в Швейцарию или Англию, к книгам, библиотекам, лабораториям, в свободную науку… А он в центре борьбы, не на жизнь, а на смерть, где кровь, убийства, виселицы, где нет пощады, и хрупкий сложный мир его мыслей, формул и идей никто не охраняет, кроме конспирации и мужества единомышленников.
…Бежало перо по бумаге. Наконец он отложил его, повернулся:
— Ну, здравствуй!
Николай стоял перед Желябовым — высокий, худой, бледный; синева залегла под глазами. В его спокойном медленном взгляде Андрей прочитал страдание. И понял, что не будет трудного разговора. Вернее, он будет трудным не для него.