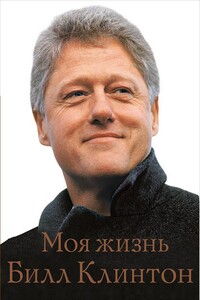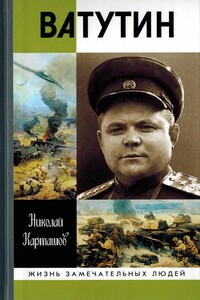Утро седьмого дня | страница 36
У него ничего нет, но он есть. Падежи местоимений.
Да, но беседа владыки Антония совсем не про это. Или не совсем про это.
Она про то, что, пока я не умер, меня кто-то должен держать за руку. И я должен держать за руку того, другого, пока он не умер.
А куда я денусь потом, вернее, куда я и он, мы оба денемся — это не так важно.
То есть, конечно, очень важно, и даже только оно и важно, но мы не знаем ответа на этот вопрос.
Нам просто дадут новое тело, по нашему истинному размеру. Сошьют, как одежду из выбеленного на солнце полотна.
И мы станем настоящими, и всё совершится окончательно, как в раю.
С возвращением!
Лучики на потолке
Во всяком случае, такова надежда. Если в это не верить, то нет смысла жить и вообще нет его ни в чём.
Всё-таки Бог ставит человеку слишком высокую планку. Очень уж многого хочет от человека. Например, хочет, чтобы все воскресли. А ведь чтобы воскреснуть после смерти, надо начинать это делать ещё при жизни. В том смысле, что при здешней жизни, временной. А как это делать? Тут придётся поломать голову. Да и не только голову, но и всё остальное.
Тоже вот: время. Слово неизвестной этимологии.
Все думают, что время — это что-то текущее, как река, и мы — щепки и соломинки, несомые этой рекой.
А на самом деле всё, может быть, наоборот. Время — это такой гипс, в который замуровано наше бытие. Мы прыгали, упали и сломали руку, или ногу, или позвоночник. И нас для нашего же блага закатали в гипс. Живое-то внутри, а снаружи неподвижное и мёртвое. Но не было бы этого мёртвого, которое нас мучает и давит и не даёт сделать то, то и это, — тогда и живое внутри отсохло бы и умерло.
Но наконец гипс снимают. Вот радость-то!
Но это ещё не скоро.
А пока мы, как всякий нетерпеливый больной, занимаемся тем, что шевелим намозоливший панцирь и отламываем от него маленькие кусочки посредством воспоминаний.
Воспоминания — своевольные существа. Особенно детские, ранние, не отфильтрованные сознанием. Почему-то вот это приходит из-за грани бытия и живёт с тобой, а другое умерло и не хочет воскреснуть.
Само слово «вос-помин-ание» устроено как восхождение: из нераздельной тёмной массы памяти — наверх, к свету.
Я вот помню кое-что из совсем раннего времени. Например, я лежу в своей детской кроватке, в той самой квартире номер три в доме шестьдесят по улице Некрасова. Я, естественно, лежу и не знаю ни про дом шестьдесят, ни про квартиру три. Темно. Мне велено спать. Взрослые-то, конечно, ещё не спят, шушукаются за перегородкой, образованной большими старинными шкафами. А мне велено закрывать глазки. Но я не закрываю и вижу потолок с белыми лепными узорами. Потом выяснится, что это растительный орнамент, гирлянды каких-то цветов и плодов, а сейчас я вижу над собой живую, как бы движущуюся белую поверхность, что-то вроде облаков, коверкающих небесную равнину. Всё это движется благодаря свету от занавешенного окна. Дело в том, что наши окна выходят на улицу, а по улице ездят грузовики и ползают трамваи. Дом стоит как раз на углу, где трамвайные пути выворачивают с Греческого проспекта на улицу Некрасова. И в час, когда мне велено спать, грузовики и трамваи не спят, так же, как и взрослые за шкафом. Я слышу тех и других.