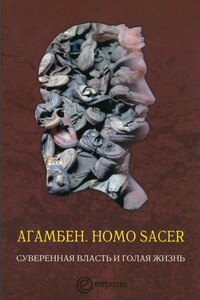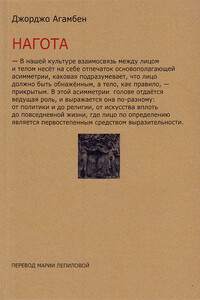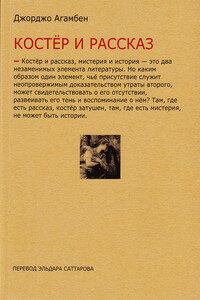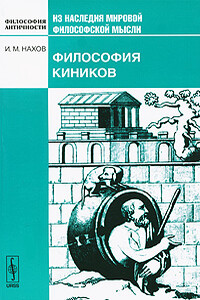Средства без цели. Заметки о политике | страница 26
Только в этом смысле малопонятное выражение Канта «целесообразность без цели»>{27} обретает конкретное значение. Она является в средстве скрытой возможностью жеста, нарушающей его собственное бытие-средства и тем самым выставляющей его на свет, превращая res в res gesta. Точно так же при буквальном понимании средств коммуникации демонстрация слова подразумевает не обладание более высоким уровнем (уровнем метаязыка, невыразимого внутри первого уровня), на котором можно создавать из него объект коммуникации, а его обнажение без всякой трансценденции в присущей ему посреднической роли, в его бытии средства. Жест в данном смысле является сообщением о способности сообщать. Ему абсолютно нечего сказать, потому что он показывает лишь человеческое бытие-в-языке как чистое опосредование. Но поскольку бытие-в-языке невозможно выразить в предложениях, жест в своей сути всегда остаётся жестом непостижимости в языке, это всегда «гэг» в прямом смысле этого слова, в первую очередь означающего кляп во рту, препятствующий слову, а во вторую – актёрскую импровизацию, восполняющую пробел в памяти или неспособность говорить. Отсюда не только близость между жестом и философией, но также между философией и кинематографом. «Немая сцена», столь важная для кино (у которой нет ничего общего с присутствием или отсутствием звуковой дорожки), как и немота в философии, является демонстрацией человеческого бытия-в-языке: чистой жестикуляцией. Определение мистики у Витгенштейна как демонстрации того, что нельзя сказать, является буквальным определением «гэга». Любой великий философский текст является «гэгом», выставляющим на свет сам язык, само бытие-в-языке, как гигантскую пустоту памяти, как неизлечимый дефект слова.