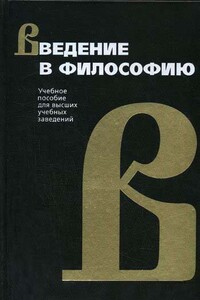Средства без цели. Заметки о политике | страница 25
4. Кинематограф, поскольку в его центре находится жест, а не образ, по сути является частью этического и политического (а не просто эстетического) порядка.
Что такое жест? Бесценная подсказка содержится в наблюдении Варрона>{25}. Он относит жест к сфере действия, но чётко отделяет его от исполнения (agere) и от создания (facere).
Можно на деле что-то создавать и не исполнять это, как поэт создаёт драму, но не исполняет её [agere в смысле «исполнения роли»]: напротив, актёр исполняет драму, но не создаёт её. Аналогичным образом, драма создаётся [fit], но не исполняется [agitur] поэтом; исполняется, но не создаётся актёром. С другой стороны, imperator [должностное лицо, облечённое верховной властью], в отношении которого используется выражение res gerere [нести что-то, в значении «браться за что-то», «принимать на себя полную ответственность за что-то»], в данном смысле не создаёт, не исполняет, но gerit[41], выдерживает [sustinet] (“De lingua latina”[42]. VI, VIII, 77).
Характерной чертой жеста является то, что он не производит и не исполняет, а принимает на себя и несёт на себе. То есть жест открывает «этос»[43] как наиболее характерную человеческую сферу. Но в каком смысле действие здесь берут на себя и несут на себе? В каком смысле res становится res gesta[44], простой факт событием? У Варрона различие между facere и agere в итоговом анализе происходит из Аристотеля. В известном фрагменте из «Никомаховой этики» он противопоставляет их следующим образом: «Творчество (poiesis) и поступки (praxis) – это разные вещи. Цель творчества отлична от него [самого], а цель поступка, видимо, нет, ибо здесь целью является само благо-получение в поступке» (VI, 1140b)>{26}. Новым является определение третьего рода действия, помимо этих двух: если создание – это средство, направленное на цель, а практика – это цель без средств, то жест разрушает ложную альтернативу между целями и средствами, парализующую мораль, и представляет средства, которые как таковые, избавляясь от посредничающего положения, не становятся при этом целями.
Ничто не мешает правильному пониманию жеста так сильно, как представление о сфере средств, направленных на цели (например, о ходьбе как о средстве для перемещения тела из пункта A в пункт B), и об отличной от неё и занимающей более высокое положение сфере жеста как движения, чья цель содержится в нём самом (например, о танце как об эстетическом измерении). Цель без средств равным образом чужда опосредованию, обладающему смыслом только в виду цели. Если танец – это жест, то только потому, что он несёт в себе и выставляет напоказ опосредующий характер движений тела.