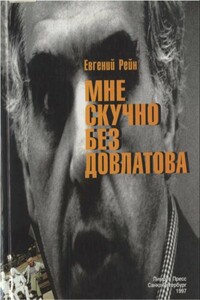Скорина | страница 4
...Сладок мед из сотов пчелиных и сахар добр, но добрее и того и другого книжный разум...
Кирилл Туровский[4]
Что день этот исторический, он знал, понимал. И главное — понимал, ибо знание еще не понимание: можно много чего знать, а что есть что — совсем не разуметь. Да и само это понимание иногда кажущееся — приблизительное, ограниченное, противоречивое, а то и вовсе странное — не только в своей фантастичности, но и в путанности. А тут понимание того, что почти целую неделю совершалось, было полным и до основания осознанным, и потому не без гордости он перечитывал строки своего послесловия. И в низковатой, с узкими, хотя и достаточно вытянутыми, оконцами типографии досточтимого Павла Северина явственно слышалось:
— Скончылася Псалтыр сия з божиею помощью повѣлѣнием и працею избранного мужа в лѣкарских науках доктора Франциска, Скоринина сына с Полоцька, у старом месте Празском лѣта по божьем нарожению тысещного пятьсотого и семогонадедеть[5] месеца августа, дъня шестаго...
«Дъня шестаго», — еще раз, подняв высоко над собой, словно в самое небо, листы с отпечатанным «Послесловием», торжественно, с ударением на слове «шестаго», прочел — точно весь мир оповещал — Скорина. И шестое здесь у него не случайно шестое. Будучи христианином, Скорина верил в бога, верил в святое писание, в Библию с ее заглавным мифом о сотворении мира: в первый день бог разделил свет и тьму; во второй — создал небо и воду; в третий — землю, травы, деревья; в пятый — рыб, птиц и гадов и в шестой — зверей, Адама и Еву. И был этот шестой день днем творения человека, разума его и рук, а значит, и всего того, что они, разум и руки человеческие, создавать могут, как бы дела творца своего оправдывая, как бы уподобляясь ему. А ведь и впрямь, если бог сотворил человека по образцу своему, то какая нужда у него отторгать от себя человека и дела его? Почему человек не может в делах своих узреть себя если и не под стать творцу, то хотя бы в тени его тенью его?
Только не тенью бога стоял Франциск Скорина посреди типографии досточтимого Павла Северина с поднятым над собой первым оттиском, остро пахнущим свежею краскою, и сам этот запах пьянил Скорину, он жадно вдыхал его полной грудью, и сердце в ней билось еще взволнованней: «Шестаго!»
Скорина запомнит этот день своей жизни навсегда, потому что станет шестое августа славным зачином в исполнении его замысла, его задумы. Его мечта, что он осуществить намеревался, на глазах обретала плоть реальности, и вот уже то, что вчера еще было лишь мыслью, теперь у него в руках. А если оно у него в руках, то, значит, может быть передано и в другие руки — для научения: для наставления в поступках добрых и благих, богу и человеку угодных, и для отклонения от помыслов негожих и разбойных. Об этом он прежде всего и написал в своем первом предисловии к Псалтыри. А еще о том, что Псалтырь есть не что иное, как музыкальный инструмент, похожий на полоцкие гусли. Только у полоцких гуслей побольше струн, а псалтырь-гусли — десятиструнные, как бы специально приспособленные славить десять божьих заповедей, врученных всевышним на горе Синай. «Пойте богу хвалу на псалтыри и гуслях», — завещал пророк, получивший заповеди. Иначе говоря, восхвалите бога словом и звуком, восславьте в песнях и гимнах. И если не ваша судьба — эти струны, мелодия, пенье, то уж, наверное, ваша планида — слово, оно — ведь исток и основа песни, запева. А вы еще спрашиваете, почему я Псалтырь избрал для первопечатания, — вовсе, кажется, не видите, что не книгу, а гусли я держу над собою, вовсе, кажется, не слышите, что поют эти гусли,